Ван Гог - [69]
Вангоговский цвет обладает способностью передавать нечто гораздо более сложное, чем символы чувств, нечто такое, что трудно выразимо словами, но что доносит саму жизнь чувств и саму борьбу страстей. Его цвета действительно приковывают и захватывают непосредственно выражаемой силой эмоций. По его полотнам люди узнали, что чистый цвет может потрясать, возвышать, облагораживать, радовать, приводить в отчаяние, вселять тоску и т. д. И дело тут, конечно, прежде всего в том, что подобная действенность цвета была у Ван Гога прирожденным редчайшим даром. Конечно, только художник, чувствующий цветовые соотношения, «как сомнамбула», приходящий нередко на мотиве в состояние «ясновидения», мог, рассуждая о символике цвета, совершенно избежать рассудочности и рационализма — так сильны, так всепобеждающе убедительны были его цветовые переживания природы. Ван Гог, по собственному его признанию, «нестерпимо остро чувствовавший и физически и морально», воспринимал цвет натуры на самом высоком духовном подъеме, во всеоружии чувств, мыслей и воображения. Синтез был у него в глазу, красный его волновал, синий успокаивал, желтый будоражил и радовал и т. д. и т. п.
Но чтобы достичь этого, он не только не мог опираться на расчеты, он должен был войти в состояние некоего «транса», где восприятие сочетается с иррациональным постижением, а действия кистью напоминают магию — они так же направленны, но и так же безотчетны.
«Каждое полотно Ван Гога — вспышка, взрыв всего его существа, обязательное завершение бесконечного, сложного и жестокого процесса. Организатор своего собственного бреда, он им овладевает и выражает его наружу. Его транс предполагает абсолютную сосредоточенность, более трудную, чем на сцене, для того, чтобы «уравновесить шесть цветов» — три главных и три второстепенных, дополнительных» 35, - пишет Леймари. Каждый сеанс Ван Гога — это часы средоточия его бытия, когда его личность обретает целостность в единении разума и воли, чувства и веры, прошлого и настоящего, мира внутреннего и внешнего. «Что до моих пейзажей, то мне все больше кажется, что самые лучшие из них — те, которые я писал особенно быстро… (имеются в виду картины жатвы. — Е. М.); работа сделана за один долгий сеанс. Но, уверяю тебя, когда я возвращаюсь после такого сеанса, голова у меня настолько утомлена, что если подобное напряжение повторяется слишком часто, как было во время жатвы, я становлюсь совершенно опустошенным и теряю способность делать самые заурядные вещи…
О, эта работа, и этот холодный расчет, которые вынуждают тебя, как актера, исполняющего очень трудную роль на сцене, напрягать весь свой ум и за какие-нибудь полчаса охватывать мыслью тысячи разных мелочей!.. Разумеется, все эти злобные иезуитские россказни насчет Монтичелли и тюрьмы Ла Рокетт — грубая ложь. Как Делакруа и Рихард Вагнер, Монтичелли, логичный колорист, умевший произвести самые утонченные расчеты и уравновесить самую дифференцированную гамму нюансов, бесспорно, перенапрягал свой мозг… Я целиком поглощен сложными раздумьями, результатом которых является ряд полотен, выполненных быстро, но обдуманных заблаговременно… И даже если это не настоящая жизнь, я все равно почти так же счастлив, как если бы жил идеально подлинной жизнью» (507, 368–369).
Каждый такой сеанс, естественно, соответствует времени работы над одной, а то и двумя картинами. Этот метод работы представляет собой полную противоположность тому, что Сезанн называл «размышлением с кистью в руках», которое могло длиться без конца над одним и тем же холстом. Сезанн почти никогда не считал свою работу законченной. И если ему для исчерпания мотива приходилось днями и месяцами просиживать над одной и той же работой, то Ван Гогу, тоже стремившемуся «схватить истинный характер вещей», приходилось создавать целые серии картин. Имея дело с «готовыми» идеями колорита, с набором, так сказать, приемов, о чем писал Рильке, Ван Гог создавал на основе одного и того же мотива вариации, пока не угасала «огненная печь вдохновения». По той же причине он так легко делал варианты своих работ, множество которых дублировал почти без изменений. Такого не могло быть у Сезанна, каждая картина которого являлась результатом неповторимого процесса «размышления с кистью в руке». Живописание же Ван Гога было функцией его озаренности, которую он старался всячески превратить в непрерывное состояние, прибегая для этого к разным средствам — от аскезы до алкоголя. Так, например, однажды он сообщил Тео: «…я сумел прожить в этом месяце три недели из четырех на галетах, молоке и сухарях… Я чувствую себя, как нормальные люди — состояние, бывавшее у меня только в Нюэнене, да и то редко. Это очень приятно. Говоря о «нормальных людях», я имел в виду бастующих землекопов, папашу Танги, папашу Милле, крестьян; хорошо чувствует себя тот, кто, работая целый день, довольствуется куском хлеба и еще находит в себе силы курить и пропустить стаканчик — в таких условиях без него не обойтись; кто, несмотря ни на какие лишения, способен чувствовать, что далеко вверху над ним раскинулся бесконечный звездный простор. Для такого человека жизнь всегда таит в себе некое очарование. Нет, кто не верит в здешнее солнце, тот сущий богохульник!» (520, 381).
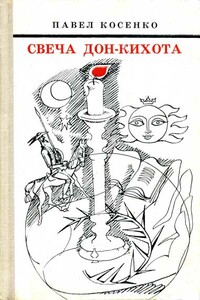
«Литературная работа известного писателя-казахстанца Павла Косенко, автора книг „Свое лицо“, „Сердце остается одно“, „Иртыш и Нева“ и др., почти целиком посвящена художественному рассказу о культурных связях русского и казахского народов. В новую книгу писателя вошли биографические повести о поэте Павле Васильеве (1910—1937) и прозаике Антоне Сорокине (1884—1928), которые одними из первых ввели казахстанскую тематику в русскую литературу, а также цикл литературных портретов наших современников — выдающихся писателей и артистов Советского Казахстана. Повесть о Павле Васильеве, уже знакомая читателям, для настоящего издания значительно переработана.».

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Флора Павловна Ясиновская (Литвинова) родилась 22 июля 1918 года. Физиолог, кандидат биологических наук, многолетний сотрудник электрофизиологической лаборатории Боткинской больницы, а затем Кардиоцентра Академии медицинских наук, автор ряда работ, посвященных физиологии сердца и кровообращения. В начале Великой Отечественной войны Флора Павловна после краткого участия в ополчении была эвакуирована вместе с маленький сыном в Куйбышев, где началась ее дружба с Д.Д. Шостаковичем и его семьей. Дружба с этой семьей продолжается долгие годы. После ареста в 1968 году сына, известного правозащитника Павла Литвинова, за участие в демонстрации против советского вторжения в Чехословакию Флора Павловна включается в правозащитное движение, активно участвует в сборе средств и в организации помощи политзаключенным и их семьям.
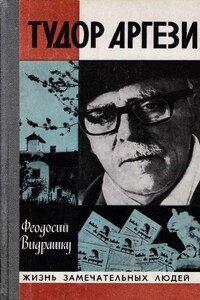
21 мая 1980 года исполняется 100 лет со дня рождения замечательного румынского поэта, прозаика, публициста Тудора Аргези. По решению ЮНЕСКО эта дата будет широко отмечена. Писатель Феодосий Видрашку знакомит читателя с жизнью и творчеством славного сына Румынии.

В этой книге рассказывается о жизни и деятельности виднейшего борца за свободную демократическую Румынию доктора Петру Грозы. Крупный помещик, владелец огромного состояния, широко образованный человек, доктор Петру Гроза в зрелом возрасте порывает с реакционным режимом буржуазной Румынии, отказывается от своего богатства и возглавляет крупнейшую крестьянскую организацию «Фронт земледельцев». В тесном союзе с коммунистами он боролся против фашистского режима в Румынии, возглавил первое в истории страны демократическое правительство.
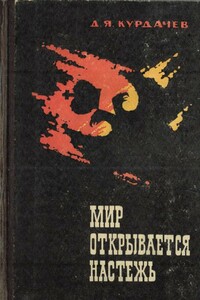
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.