Вальтер Ратенау - [2]
Ничто не удивляло меня в нем больше, чем гениальная организованность его внешней жизни. При таком многообразии интересов, при неслыханной деятельности, он был свободен и располагал временем для всего и для каждого. Поразила меня наша первая встреча, поразила и последняя. Впервые — более пятнадцати лет назад, когда я после длительного обмена с ним письмами[8], приехав в Берлин, позвонил ему, он сказал мне, что завтра утром уезжает на три месяца в Южную Африку. Естественно, я готов был сразу же отказаться от совершенно необязательного визита, но он, очень быстро прикинув свои возможности, попросил меня прийти к нему в четверть первого ночи. Это позволило бы нам, сказал он, с приятностью пару часов поболтать. Мы встретились и говорили два или три часа: ничто не указывало на какую-то нервозность собеседника, на какое-либо волнение — он был совершенно спокоен, и это за считанные часы до отъезда на длительное время в другую часть света. Сутки были жестко распределены им, сну и беседе отводились известные часы, и часы беседы были заполнены его страстной и бесконечно увлекательной речью.
И так было всегда — к нему можно было явиться когда угодно, этот деятельный человек имел для случайного посетителя время днем и ночью, для него не существовало ни невыполненных обещаний, ни незаконченных писем, и точно так же, как в первый раз, я почувствовал эту гениальную организованность при нашей последней встрече. Это было в ноябре прошлого года, я должен был приехать в Берлин, прочесть там доклад[9], и заранее радовался возможности побеседовать с Ратенау. Эти беседы были для меня очень ценны. В своих берлинских наездах я всегда встречался с ним. И тут я прочел в газетах, что Ратенау предстоит выполнить в Лондоне какое-то политическое поручение[10]. Неожиданно его вырвали из частной жизни и привлекли к решению политической судьбы Германии. Разумеется, я уже не рассчитывал встретиться с ним и перед отъездом в Берлин написал ему записку, в которой сообщал, что не хочу обременять его посещением в момент, когда перед ним стоят вопросы несравненной важности для мира. А в Берлине в отеле вместо других, ожидаемых мной писем лежало единственное — от Ратенау. Он писал, что у него действительно мало свободного времени, но я обязательно должен прийти к нему в субботу вечером. Между двумя конференциями, при бесконечном количестве текущих неотложных дел мы спокойно побеседовали в его служебном кабинете на чисто абстрактные темы. А два дня спустя в половине одиннадцатого вечера в доме одного берлинского издателя[11], где собралось небольшое общество, он в непринужденной манере беззаботного человека рассказал что-то интересное о прошедших временах, затем мы вместе ушли и поговорили по пути к Кёнигсаллее — здесь через три месяца его поразит пуля. Был час ночи, я отправился спать, а в утренних газетах прочел, что Вальтер Ратенау сегодня первым поездом отбыл в Лондон на переговоры.
Таким собранным, таким мобилизованным на работу, таким вечно бодрствующим был мозг Ратенау — за четыре часа до отъезда на переговоры, имеющие всемирно-историческое значение, решающие судьбы многих миллионов людей, человек оставался внешне непринужденным, мог позволить себе, не нервничая, отвлечься, провести какое-то время в легкой беседе. Багаж его знаний был настолько велик, понимание поставленных перед ним задач — настолько полно, что ему никогда и ни к чему не надо было готовиться, он был всегда готов.
Гениальность Ратенау определялась его организованностью, подчинением мышления воле, доведенной до совершенства способностью предвидения. Трагичным в этом человеке было то, что он не любил эту сторону своей гениальности, как и собственно идею организованности. Он полагал, и об этом часто писал в своих книгах, что любая организованность, и духовная, и материальная, бесплодна, вторична, если она не служит высшему, самоотверженному разуму, чему-то психическому. И это психическое ему долго не удавалось найти. Он писал о душе и о вере как о постулатах, но по-настоящему никто не верил в воспевание созерцательности, которое исходило от этого деятельного, активного человека, а еще меньше верили восхвалениям духовной жизни, исходившим от миллионера. Он чувствовал свое глубокое одиночество, испытывал огромную неудовлетворенность собой. Просто накопительство, захватывание мест в наблюдательных советах, ослепление идеей треста какого-нибудь Стиннеса[12] или Кастильоне[13] не могли как самоцель привлекать такую благородную личность. Он постоянно спрашивал себя: Почему? Зачем? Искал надличное оправдание своей поразительно активной деятельности.
Подсознательно эта интеллектуальнейшая из всех интеллектуальных личность страдала от неутолимой жажды религиозного, жажды веры, нуждалась в каком-либо притуплении чувств. Но в каждой религии есть зерно самообмана, иллюзии, зерно ограничения мира, а роком Вальтера Ратенау, его глубочайшей трагедией было то, что самообман, иллюзии были абсолютно ему чужды. Его можно назвать царем Мидасом духа: все, на что бы он ни взглянул, превращалось в кристалл, становилось прозрачным и понятным, формировалось в духовный порядок, ни одна крупица иллюзии или веры не принесла ему покоя или утешения. Не дано было ему ни забыться, ни увлечься чем-нибудь. Вероятно, он отдал бы свое состояние за возвышенный дурман, за способность писать стихи, за веру, но ему предопределено было оставаться всегда ясным, всегда бодрым, а удивительному его мозгу — всегда работать.

Литературный шедевр Стефана Цвейга — роман «Нетерпение сердца» — превосходно экранизировался мэтром французского кино Эдуаром Молинаро.Однако даже очень удачной экранизации не удалось сравниться с силой и эмоциональностью истории о безнадежной, безумной любви парализованной юной красавицы Эдит фон Кекешфальва к молодому австрийскому офицеру Антону Гофмюллеру, способному сострадать ей, понимать ее, жалеть, но не ответить ей взаимностью…

Самобытный, сильный и искренний талант австрийского писателя Стефана Цвейга (1881–1942) давно завоевал признание и любовь читательской аудитории. Интерес к его лучшим произведениям с годами не ослабевает, а напротив, неуклонно растет, и это свидетельствует о том, что Цвейгу удалось внести свой, весьма значительный вклад в сложную и богатую художественными открытиями литературу XX века.

Всемирно известный австрийский писатель Стефан Цвейг (1881–1942) является замечательным новеллистом. В своих новеллах он улавливал и запечатлевал некоторые важные особенности современной ему жизни, и прежде всего разобщенности людей, которые почти не знают душевной близости. С большим мастерством он показывает страдания, внутренние переживания и чувства своих героев, которые они прячут от окружающих, словно тайну. Но, изображая сумрачную, овеянную печалью картину современного ему мира, писатель не отвергает его, — он верит, что милосердие человека к человеку может восторжествовать и облагородить жизнь.

Книга известного австрийского писателя Стефана Цвейга (1881-1942) «Мария Стюарт» принадлежит к числу так называемых «романтизированных биографий» - жанру, пользовавшемуся большим распространением в тридцатые годы, когда создавалось это жизнеописание шотландской королевы, и не утратившему популярности в наши дни.Если ясное и очевидное само себя объясняет, то загадка будит творческую мысль. Вот почему исторические личности и события, окутанные дымкой загадочности, ждут все нового осмысления и поэтического истолкования. Классическим, коронным примером того неистощимого очарования загадки, какое исходит порой от исторической проблемы, должна по праву считаться жизненная трагедия Марии Стюарт (1542-1587).Пожалуй, ни об одной женщине в истории не создана такая богатая литература - драмы, романы, биографии, дискуссии.
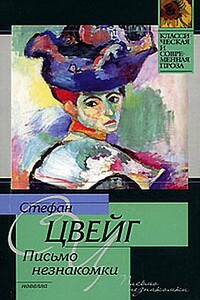
В новелле «Письмо незнакомки» Цвейг рассказывает о чистой и прекрасной женщине, всю жизнь преданно и самоотверженно любившей черствого себялюбца, который так и не понял, что он прошёл, как слепой, мимо великого чувства.Stefan Zweig. Brief einer Unbekannten. 1922.Перевод с немецкого Даниила Горфинкеля.

В книге рассматривается история древнего фракийского народа гетов. Приводятся доказательства, что молдавский язык является преемником языка гетодаков, а молдавский народ – потомками древнего народа гето-молдован.
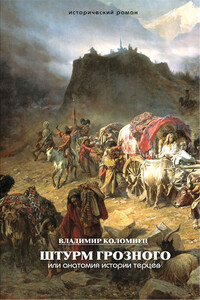
Новый остросюжетный исторический роман Владимира Коломийца посвящен ранней истории терцев – славянского населения Северного Кавказа. Через увлекательный сюжет автор рисует подлинную историю терского казачества, о которой немного известно широкой аудитории. Книга рассчитана на широкий круг читателей.
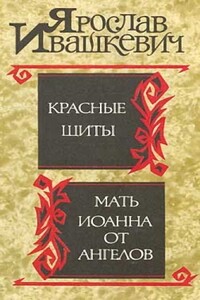
В романе выдающегося польского писателя Ярослава Ивашкевича «Красные щиты» дана широкая панорама средневековой Европы и Востока эпохи крестовых походов XII века. В повести «Мать Иоанна от Ангелов» писатель обращается к XVII веку, сюжет повести почерпнут из исторических хроник.

Олег Николаевич Михайлов – русский писатель, литературовед. Родился в 1932 г. в Москве, окончил филологический факультет МГУ. Мастер художественно-документального жанра; автор книг «Суворов» (1973), «Державин» (1976), «Генерал Ермолов» (1983), «Забытый император» (1996) и др. В центре его внимания – русская литература первой трети XX в., современная проза. Книги: «Иван Алексеевич Бунин» (1967), «Герой жизни – герой литературы» (1969), «Юрий Бондарев» (1976), «Литература русского зарубежья» (1995) и др. Доктор филологических наук.В данном томе представлен исторический роман «Кутузов», в котором повествуется о жизни и деятельности одного из величайших русских полководцев, светлейшего князя Михаила Илларионовича Кутузова, фельдмаршала, героя Отечественной войны 1812 г., чья жизнь стала образцом служения Отечеству.В первый том вошли книга первая, а также первая и вторая (гл.
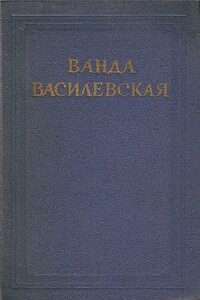
В 3-й том Собрания сочинений Ванды Василевской вошли первые две книги трилогии «Песнь над водами». Роман «Пламя на болотах» рассказывает о жизни украинских крестьян Полесья в панской Польше в период между двумя мировыми войнами. Роман «Звезды в озере», начинающийся картинами развала польского государства в сентябре 1939 года, продолжает рассказ о судьбах о судьбах героев первого произведения трилогии.Содержание:Песнь над водами - Часть I. Пламя на болотах (роман). - Часть II. Звезды в озере (роман).

Книга Елены Семёновой «Честь – никому» – художественно-документальный роман-эпопея в трёх томах, повествование о Белом движении, о судьбах русских людей в страшные годы гражданской войны. Автор вводит читателя во все узловые события гражданской войны: Кубанский Ледяной поход, бои Каппеля за Поволжье, взятие и оставление генералом Врангелем Царицына, деятельность адмирала Колчака в Сибири, поход на Москву, Великий Сибирский Ледяной поход, эвакуация Новороссийска, бои Русской армии в Крыму и её Исход… Роман раскрывает противоречия, препятствовавшие успеху Белой борьбы, показывает внутренние причины поражения антибольшевистских сил.
