В тисках провокации. Операция «Трест» и русская зарубежная печать - [6]
И судьба Опперпута была решена: «по обстоятельствам дела» его освободили из-под стражи и использовали — в каких именно целях, дело умалчивает. За границу Опперпута отпустить не рискнули, но идею его взяли на вооружение: к Савинкову будет послан свой, более хладнокровный и надежный человек[20].
Понятно, что, будь Опперпут провокатором, внедренным ВЧК в ряды савинковской организации, а не контрреволюционером, по доброй воле примкнувшим к ней, тон и содержание письма были бы совершенно иными. В любом случае автор письма не рискнул бы в качестве оправдательного момента ссылаться на свой авантюризм, а напротив, всячески акцентировал бы идейные мотивы своих поступков. Но, даже говоря о своем участии в карательной деятельности Красной армии против партизан, Опперпут считает необходимым в письме к Менжинскому отметить личное бесстрашие, а не политическую лояльность. И это не случайно. Спустя несколько лет, возвращаясь в своих записках к тому же моменту своей биографии — участию в подавлении повстанческого движения, — Опперпут раскрыл такие стороны своего поведения, которые никак о большевистской принципиальности и классовой зрелости свидетельствовать не могли:
В течение 1919 г. Опперпуту в качестве красного офицера приходилось выступать против местных партизан.
Он, однако, установил тесную связь с повстанцами, вследствие чего походы красных оканчивались неудачей.
— При встречах с представителями партизан, — расказывает Опперпут, — мы решали, по каким дорогам будут двигаться красные партизаны, по каким будут отступать повстанцы. «Припоминаю забавный случай, — передает он, — когда мне с двумя нашими офицерами самим пришлось обстрелять на могилевском шоссе автомобиль губвоенкома, чтобы сбить его от верного направления и дать возможность партизанам отойти в район пропойских лесов»[21].
Однако факт остается фактом: Опперпут, согласно следственному делу, «дал ключ» к раскрытию савинковской организации. Можно предположить, что само по себе письмо к Менжинскому — с неожиданным обращением «товарищ» — было написано с одобрения Я. С. Агранова, который вел допросы Опперпута уже в Смоленске, Гомеле и Минске, а затем и в Москве. Опперпут так вспоминал о нем в своих гельсингфорсских записках 1927 года:
Мягкий по внешности, с глубоким грудным баритоном, он ворковал перед своими подследственными, точно голубь, и только порой холодный блеск его темных прищуренных глаз выдавал сидящего в нем кровожадного зверя. Дьяволом звали его подследственные, и им он был в действительности. Во время следствия он точно измывался над своей жертвой. Месть, обещания золотых гор и полного прощения всех грехов не только подследственному, <но> и всем с ним связанным, и безусловно большие гипнотические способности были главными его орудиями следствия. Физических пыток он не признавал совершенно, но зато виртуоза выдумывать моральные пытки нет ему равного. Недаром Ленин, умевший верно оценивать людей, направил его из своих секретарей на работу в ВЧК. <…> Ко мне он почему-то благоволил. Возможно, что в данном случае имело значение то, что у нас по Гомелю оказалось много общих знакомых, которые безусловно сносились с ним по поводу меня. Его влияние в ВЧК было огромно, почему не удивительно, что он очень легко добился замены мне высшей меры наказания заключением в концентрационный лагерь с тем, чтобы я впоследствии был использован как секретный сотрудник[22].
Поездку в Варшаву с целью ликвидации Савинкова Опперпуту не позволили: доверия к энтузиасту-неофиту чекисты не питали. Но, с другой стороны, предложение ценного арестанта об использовании его услуг они приняли и подвергли его нескольким испытаниям.
Первым таким испытанием оказалось следствие по делу Петроградской боевой организации, завершившееся расстрелом 61 человека в августе 1921 года. Интерес к Опперпуту в этом контексте объяснялся тем, что следствие изо всех сил стремилось найти доказательства сотрудничества между петроградской и савинковской организациями. Как только его доставили в Москву во Внутреннюю тюрьму на Лубянке, от него стали добиваться соответствующего признания:
В первый же день меня вызвали к Артузову, «начальнику контрразведывательного отдела» ГПУ (т. н. «КРООГПУ»).
— Почему вы отрицаете свою связь с организацией Таганцева? — спросил он. — В этом сознался не только сам Таганцев, но и ваша невеста, через которую вы поддерживали связь.
Я ответил:
— Отрицаю эту связь потому, что ее нет и не было, а моя невеста не может быть такой связью потому, что она даже не знает, что я веду антисоветскую работу и участвую в Союзе защиты родины и свободы.
Вскоре мне устроили очную ставку с одним офицером. Его я встретил в Варшаве, в штабе Савинкова. Оказалось, что он… служит в ВЧК и снова возвращается в Варшаву, вместе с другими такими же «савинковцами»[23].
Как известно, следствие по таганцевскому делу было возложено на того же Агранова. С его переводом в Петроград этапировали туда и Опперпута. В «Записках» Опперпута рассказывается:
Спустя еще несколько дней, на одном из допросов, Агранов сообщил, что ему поручено также и дело профессора Таганцева, но руководство следствием по делу НСЗРиС он все же сохраняет за собой, почему одновременно с его отъездом в Петроград и меня переводят туда же. Действительно, скоро меня перевезли в Петроград и поместили в т. н. «Особом коридоре» ДПЗ.

Главной темой книги стала проблема Косова как повод для агрессии сил НАТО против Югославии в 1999 г. Автор показывает картину происходившего на Балканах в конце прошлого века комплексно, обращая внимание также на причины и последствия событий 1999 г. В монографии повествуется об истории возникновения «албанского вопроса» на Балканах, затем анализируется новый виток кризиса в Косове в 1997–1998 гг., ставший предвестником агрессии НАТО против Югославии. Событиям марта — июня 1999 г. посвящена отдельная глава.
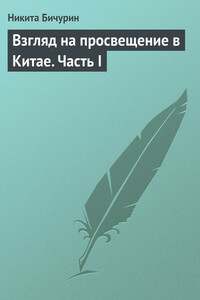
«Кругъ просвещенія въ Китае ограниченъ тесными пределами. Онъ объемлетъ только четыре рода Ученыхъ Заведеній, более или менее сложные. Это суть: Училища – часть наиболее сложная, Институты Педагогическій и Астрономическій и Приказъ Ученыхъ, соответствующая Академіямъ Наукъ въ Европе…»Произведение дается в дореформенном алфавите.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Книга Волина «Неизвестная революция» — самая значительная анархистская история Российской революции из всех, публиковавшихся когда-либо на разных языках. Ее автор, как мы видели, являлся непосредственным свидетелем и активным участником описываемых событий. Подобно кропоткинской истории Французской революции, она повествует о том, что Волин именует «неизвестной революцией», то есть о народной социальной революции, отличной от захвата политической власти большевиками. До появления книги Волина эта тема почти не обсуждалась.

Эта книга — история жизни знаменитого полярного исследователя и выдающегося общественного деятеля фритьофа Нансена. В первой части книги читатель найдет рассказ о детских и юношеских годах Нансена, о путешествиях и экспедициях, принесших ему всемирную известность как ученому, об истории любви Евы и Фритьофа, которую они пронесли через всю свою жизнь. Вторая часть посвящена гуманистической деятельности Нансена в период первой мировой войны и последующего десятилетия. Советскому читателю особенно интересно будет узнать о самоотверженной помощи Нансена голодающему Поволжью.В основу книги положены богатейший архивный материал, письма, дневники Нансена.