В соблазнах кровавой эпохи - [29]
Однако кто об этом тогда думал? Повсюду происходили многочисленные митинги, на которых все выступавшие говорили о тяжести понесенной утраты, а также клеймили гнусных убийц и требовали выжигать их каленым железом. Об утрате говорилось так, словно все знают, о ком идет речь. Всенародная скорбь была явно организованной.
Конечно, ни масштаба, ни смысла происходившего я тогда не понимал. В том, что враги убили пролетарского вождя, ничего для меня противоестественного не было. На то и враги. А «наше» дело — их поймать и расстрелять. Все ясно. Удивляло, что этой естественной вещи все вокруг требуют так горячо. Разве кто-нибудь против? И хоть я тогда не мог понять ни фальши, ни организованности скорби, но некоторую неувязку все же чувствовал. Это не было четким отношением к вещам — да и откуда оно в таком юном, естествен но-конформистском возрасте? Это было неосознанным смущением, которое я бодро подавлял, проникаясь общим настроением, но все же испытывал. Нет, я не ставил чего-либо под сомнение, совсем наоборот, но в глубине души все же не откликался ни на авантюрный сюжет, ни на всеобщее возмущение. Запечатлелся один из лозунгов — «КАК ЗНАМЯ, БЕРЕЧЬ ВОЖДЕЙ!». Почему запомнился? Ведь не мог же я понимать, что это под шумок протаскивается уравнение, а потом замещение, Знамени (идеи, смысла) вождями, а потом и почти единственным, оставшимся незапятнанным ВОЖДЕМ. Однако же врезалось.
Врезался в память и такой случай, происшедший со мной 2 или 3 декабря. Было это на последнем этаже школы, где помещался наш класс. Уроки уже кончились (мы учились во вторую смену), все ребята спустились вниз — то ли домой, то ли на митинг по поводу злодейского убийства. Я замешкался. С криком «Киров! Киров!» гоняю по пустому коридору найденный только что обрывок газеты с портретом убитого вождя. Это не было ни протестом, ни кощунством — только странным экстазом, которому чаето подвержены дети, после того как им некоторое время пришлось сидеть неподвижно. А тут еще это слово «Киров» у всех на устах, и сейчас будет митинг на эту тему. Так что у возбуждения моего несколько причин, и я минуты две самозабвенно предаюсь этому странному занятию. Пока в пустом коридоре меня вдруг не увидела учительница параллельного украинского класса. «Ты что делаешь? Немедленно перестань!» — закричала она испуганно. И стала мне что-то внушать. Смысла этого внушения я не помню, но помню отчетливое ощущение, прямо-таки дуновение опасности, от которой она хочет меня уберечь этим внушением. И я почувствовал, что этот мой поступок (да и не поступок, а просто экстатическое действо), не имевший никакого отношения ни к политике, ни к Кирову (не радовался же я его смерти), может быть кем-то как-то истолкован, что я внезапно окажусь не самим собой, а кем-то прямо противоположным себе, врагом революции. И никому уже не смогу доказать, что это не так. Естественно, я так не формулировал, но чувствовал именно это. Я впервые столкнулся с неприкрытой бессмыслицей, исходящей от взрослых, которой сами взрослые боятся. И пусть не умом (а может, уже и умом тоже) понял, как опасно давать повод для ложного истолкования своих поступков — эту первую заповедь подданных тоталитарного государства. Она была достаточно убедительна тогда еще и потому, что вполне гармонировала с организованной скорбью по человеку, самое имя которого вчера еще мало кто знал. С этой точки зрения мой легкомысленный поступок и впрямь был преступен. Он разрушал создаваемую властью атмосферу всеобщей скорби и единения в ней.
Примерно в это же время я оказался рядом уже с настоящей трагедией, связанной с упомянутыми выше чертами времени. Началась она вовсе не как трагедия. Однажды, когда мы уже начали учиться во втором классе, у нас появился новенький. Невысокого роста, коренастенький, аккуратный, весь какой-то собранный, но мягкий и скромный, он произвел на всех очень приятное впечатление. Я помню далеко не всех одноклассников той поры, но его, с которым проучился всего несколько месяцев, запомнил на всю жизнь. Он был первым в моей жизни другом. Звали его Владик Федченко.
Сошлись мы с ним на том, что оба не были драчунами и оба любили читать книжки. Жил он с отцом, матерью и тетей недалеко от нас в одноэтажном деревянном домике. Дорога к нему была моим первым экскурсом по Владимирской в сторону, обратную Жилянской, туда, где стояли невзрачные домики. Из визитов к нему я сделал открытие, что и в одноэтажных домиках могут быть вполне городские квартиры, чего я не представлял. Однако рассказ мой не об этом.
Родители Владика и его тетя были молодыми, красивыми, интеллигентными и деликатными людьми, В доме всегда что-то писалось, читалось, обстановка была спокойная, рабочая, встречали меня приветливо, играть нам не мешали. В общем, мне бывать у них нравилось. Но очень скоро — думаю, это было осенью 1935 года — стряслась беда. В одно прекрасное утро Владик не пришел в школу. Это меня очень огорчило, ибо мы накануне с ним наметили какие-то планы на сегодняшний день. И удивило — я знал, что вчера вечером он был совершенно здоров. Но мало ли что бывает, и после школы я, несколько встревоженный, отправился навестить его. Но, к моему удивлению, я против обыкновения не был к нему допущен. Обычно столь любезная его тетя на этот раз была суха и непреклонна. «Нет, к нему нельзя. Нет его»,— односложно отвечала она, загораживая вход. Домой я вернулся обескураженный и обеспокоенный.

О поэте Науме Коржавине (род. в 1925 г.) написано очень много, и сам он написал немало, только мало печатали (распространяли стихи самиздатом), пока он жил в СССР, — одна книга стихов. Его стали активно публиковать, когда поэт уже жил в американском Бостоне. Он уехал из России, но не от нее. По его собственным словам, без России его бы не было. Даже в эмиграции его интересуют только российские события. Именно поэтому он мало вписывается в эмигрантский круг. Им любима Россия всякая: революционная, сталинская, хрущевская, перестроечная… В этой книге Наум Коржавин — подробно и увлекательно — рассказывает о своей жизни в России, с самого детства… [Коржавин Н.

О поэте Науме Коржавине (род. в 1925 г.) написано очень много, и сам он написал немало, только мало печатали (распространяли стихи самиздатом), пока он жил в СССР, — одна книга стихов.Его стали активно публиковать, когда поэт уже жил в американском Бостоне. Он уехал из России, но не от нее. По его собственным словам, без России его бы не было. Даже в эмиграции его интересуют только российские события. Именно поэтому он мало вписывается в эмигрантский круг. Им любима Россия всякая: революционная, сталинская, хрущевская, перестроечная…В этой книге Наум Коржавин — подробно и увлекательно — рассказывает о своей жизни в России, с самого детства…

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
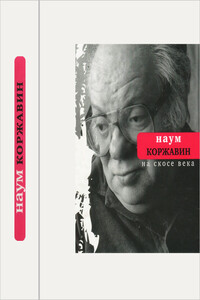
«Поэт отчаянного вызова, противостояния, поэт борьбы, поэт независимости, которую он возвысил до уровня высшей верности» (Станислав Рассадин). В этом томе собраны строки, которые вполне можно назвать итогом шестидесяти с лишним лет творчества выдающегося русского поэта XX века Наума Коржавина. «Мне каждое слово будет уликой минимум на десять лет» — строка оказалась пророческой: донос, лубянская тюрьма, потом сибирская и карагандинская ссылка… После реабилитации в 1956-м Коржавин смог окончить Литинститут, начал печататься.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
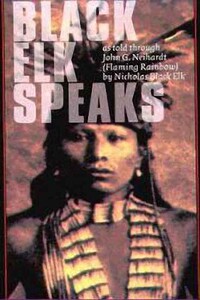
Джон Нейхардт (1881–1973) — американский поэт и писатель, автор множества книг о коренных жителях Америки — индейцах.В 1930 году Нейхардт встретился с шаманом по имени Черный Лось. Черный Лось, будучи уже почти слепым, все же согласился подробно рассказать об удивительных визионерских эпизодах, которые преобразили его жизнь.Нейхардт был белым человеком, но ему повезло: индейцы сиу-оглала приняли его в свое племя и согласились, чтобы он стал своего рода посредником, передающим видения Черного Лося другим народам.

Аннотация от автораЭто только кажется, что на работе мы одни, а дома совершенно другие. То, чем мы занимаемся целыми днями — меняет нас кардинально, и самое страшное — незаметно.Работа в «желтой» прессе — не исключение. Сначала ты привыкаешь к цинизму и пошлости, потом они начинают выгрызать душу и мозг. И сколько бы ты не оправдывал себя тем что это бизнес, и ты просто зарабатываешь деньги, — все вранье и обман. Только чтобы понять это — тоже нужны и время, и мужество.Моя книжка — об этом. Пять лет руководить самой скандальной в стране газетой было интересно, но и страшно: на моих глазах некоторые коллеги превращались в неопознанных зверушек, и даже монстров, но большинство не выдерживали — уходили.

Эта книга воссоздает образ великого патриота России, выдающегося полководца, политика и общественного деятеля Михаила Дмитриевича Скобелева. На основе многолетнего изучения документов, исторической литературы автор выстраивает свою оригинальную концепцию личности легендарного «белого генерала».Научно достоверная по информации и в то же время лишенная «ученой» сухости изложения, книга В.Масальского станет прекрасным подарком всем, кто хочет знать историю своего Отечества.

В книге рассказывается о героических боевых делах матросов, старшин и офицеров экипажей советских подводных лодок, их дерзком, решительном и искусном использовании торпедного и минного оружия против немецко-фашистских кораблей и судов на Севере, Балтийском и Черном морях в годы Великой Отечественной войны. Сборник составляют фрагменты из книг выдающихся советских подводников — командиров подводных лодок Героев Советского Союза Грешилова М. В., Иосселиани Я. К., Старикова В. Г., Травкина И. В., Фисановича И.

Встретив незнакомый термин или желая детально разобраться в сути дела, обращайтесь за разъяснениями в сетевую энциклопедию токарного дела.Б.Ф. Данилов, «Рабочие умельцы»Б.Ф. Данилов, «Алмазы и люди».
