В соблазнах кровавой эпохи - [13]
Помню, как одна очень добрая родственница сетовала на то, что нашей дочери не дали имени ее погибшего во время сталинских чисток деда.
— Но она ведь девочка,— удивились мы,— а его звали Григорий, Гриша. Как же ее надо было назвать в честь него? Ведь нет такого имени...
Но для доброй женщины не было тут никаких трудностей.
— Как нет? — в свою очередь удивилась она. — А Грина?!
То, что такого имени нет в природе, ее просто не занимало.
Думаю, что приблизительно так прилепилось ко мне и имя Эма.
Вообще-то при рождении мне дали имя моего кенигсбергского деда — Нехемье. Но поскольку даже в обиходе того круга, где я родился, оно не звучало естественно, оно постепенно так «приспособилось к реальности». То, что оно при этом оказалось женским, никого не беспокоило. Так и живу. Спасаюсь тем, что, подписывая письма друзьям — больше употреблять его негде,— пишу его через одно «м». Только дети иногда все же интересуются, почему я дядя, а не тетя. Но в быту, так уж получилось, мне привычней и естественней откликаться на это имя. Неудобств оно мне не доставляет. Более того, везде, где мое положение естественно, меня называют Эма, а везде, где я как бы не в своем облике (эвакуация, ссылка, горный техникум), меня называли Наум. Из чего отнюдь не следует, что отношения с людьми в этих местах у меня обязательно были более далекие и отчужденные. Где бы я ни был, у меня оставались друзья, которых я до сих пор люблю.
Но Наум я на самом деле. В русском переводе имя Нехемье значит Наум. Это не приспособление имени, а его перевод: пророк Нехемье — пророк Наум. Впрочем, и в приспособлении имени я никакой особой подлости не вижу. Слишком ломались уклады в наше время. Как бы ни презирали меня за это всякого рода разоблачители, а с именем Нехемье, даже если б оно не имело перевода, я бы никогда себя отождествить не смог. В Израиле все эти имена уместны и звучат красиво, но в русской жизни они громоздки и неудобны. Впрочем, мои родители, которых в каком-либо отказе от еврейства обвинить трудно, в эвакуации звались Анна Наумовна (вместо Ханна Нехемьевна, как ее называли в Киеве) и Моисей Григорьевич (вместо Гецелевич). Просто потому, что на Украине тогда еврейские имена были не в диковинку, а на Урале были труднопроизносимы.
Но я забежал вперед, а мемуары в принципе следует начинать с начала, с раннего детства. Но о нем мне рассказывать почти нечего. Лев Толстой помнил даже, как его пеленали, но я этого не помню. Помню только, как меня баюкали, завернув в одеяло. И каким оно большим тогда было, это красное детское ватное одеяльце! Помню, что короткое время в самом начале у меня была няня и что звали ее Пашей.
Присутствие Паши я осознал раньше, чем присутствие матери. Помню, как однажды мы сидели с Пашей на крыльце нашего дома, и вдруг подошла какая-то женщина, вроде бы знакомая и симпатичная, и стала что-то требовательно внушать няне, почему я настроился по отношению к ней даже несколько неодобрительно. Потом оказалось, что я живу с этой женщиной в одной комнате и что она — моя мама. Видимо, наше самосознание пробуждается в нас толчками, а не плавно. О Паше помню еще, что была она русская, а не украинка. Это было до начала массового бегства украинских крестьян из вымирающих деревень в города, и Киев был еще городом по преимуществу русским.
Впрочем, ее я встречал и позже, когда она от нас ушла, даже и после войны,— она жила где-то по соседству. Она, может, и сейчас еще жива, но только не «по соседству», ибо «соседства» этого уже нет: все домики вокруг и наш тоже снесли.
Но на дворе еще год двадцать седьмой, может быть, двадцать восьмой, и мы сидим с Пашей в солнечный день на крыльце нашего дома. Крыльцо, собственно, не совсем крыльцо — просто широкие цементированные ступени, где по вечерам жильцы, как во всяком южном городе, расставляют стулья и «дышат воздухом», устраивают нечто вроде импровизированного клуба. Но это воспоминания более поздних лет. А пока мы сидим с няней на крыльце, и что здесь бывает вечером, я не знаю. По вечерам я еще сплю.
Это крыльцо для меня выход в мир и вход в мой дом. Мимо нас с няней иногда проходят люди, соседи и родные, в дом и из дома. Каждый скажет мне хоть слово, некоторые и по щечке потреплют. Людям я рад, но куда они уходят, я не знаю и не интересуюсь. Я еще не знаю, куда можно уходить, но знаю, что можно, это данность. Данность и дом, на крыльце которого я сижу. Со стороны улицы он выложен кирпичом какого-то зеленовато-желтого, уютного, и вправду «домашнего», цвета. Или, наоборот, цвет этот воспринимается мной как домашний, потому что он связался с домом? Теперь этого уже не разобрать. На первом этаже (точней, в бельэтаже) справа от нас (мы ведь сидим спиной к дому) — пять больших широких окон. Первые два — теткиной спальни, следующие три — нашей комнаты. Над ними — второй этаж — ряд таких же окон. Только вместо одного из них — выход на балкон. Слева от нас то же, что и справа, только эта часть дома продолжена подворотней (по-киевски — «подъездом»), над которой на уровне полуторного этажа еще одно окно — квартиры, предназначавшейся для дворника. Под каждым из окон бельэтажа есть еще одно небольшое окошко. Если стоять не рядом, можно видеть только его верхнюю часть, нижняя как бы уходит в землю. На самом деле вокруг каждого из них мощеная квадратная выемка. Это окошки подвала. Когда мы кончим «гулять», то есть сидеть на крыльце, и войдем в парадное, мы увидим вход в этот подвал — несколько ступенек, ведущих вниз, и широкую желтую — под цвет парадного — дверь, обычно запертую на висячий замок. Но в подвал мы не идем. Да меня туда и не тянет — там темно и оттуда несет сыростью. Там никто не живет, и никто еще не знает, что там можно жить. Тянет меня домой, там светло, там у меня есть игрушки, кроватка, родное красное одеяло. Мы держимся правей и одолеваем почти такое же небольшое количество ступенек, что и в подвал, но только вверх, а не вниз, и оказываемся на своей площадке.

О поэте Науме Коржавине (род. в 1925 г.) написано очень много, и сам он написал немало, только мало печатали (распространяли стихи самиздатом), пока он жил в СССР, — одна книга стихов. Его стали активно публиковать, когда поэт уже жил в американском Бостоне. Он уехал из России, но не от нее. По его собственным словам, без России его бы не было. Даже в эмиграции его интересуют только российские события. Именно поэтому он мало вписывается в эмигрантский круг. Им любима Россия всякая: революционная, сталинская, хрущевская, перестроечная… В этой книге Наум Коржавин — подробно и увлекательно — рассказывает о своей жизни в России, с самого детства… [Коржавин Н.

О поэте Науме Коржавине (род. в 1925 г.) написано очень много, и сам он написал немало, только мало печатали (распространяли стихи самиздатом), пока он жил в СССР, — одна книга стихов.Его стали активно публиковать, когда поэт уже жил в американском Бостоне. Он уехал из России, но не от нее. По его собственным словам, без России его бы не было. Даже в эмиграции его интересуют только российские события. Именно поэтому он мало вписывается в эмигрантский круг. Им любима Россия всякая: революционная, сталинская, хрущевская, перестроечная…В этой книге Наум Коржавин — подробно и увлекательно — рассказывает о своей жизни в России, с самого детства…

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
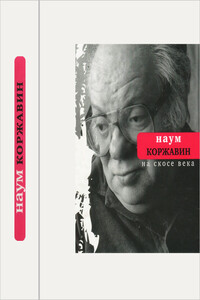
«Поэт отчаянного вызова, противостояния, поэт борьбы, поэт независимости, которую он возвысил до уровня высшей верности» (Станислав Рассадин). В этом томе собраны строки, которые вполне можно назвать итогом шестидесяти с лишним лет творчества выдающегося русского поэта XX века Наума Коржавина. «Мне каждое слово будет уликой минимум на десять лет» — строка оказалась пророческой: донос, лубянская тюрьма, потом сибирская и карагандинская ссылка… После реабилитации в 1956-м Коржавин смог окончить Литинститут, начал печататься.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

«Великого князя не любили, он не был злой человек, но в нём было всё то, что русская натура ненавидит в немце — грубое простодушие, вульгарный тон, педантизм и высокомерное самодовольство — доходившее до презрения всего русского. Елизавета, бывшая сама вечно навеселе, не могла ему однако простить, что он всякий вечер был пьян; Разумовский — что он хотел Гудовича сделать гетманом; Панин за его фельдфебельские манеры; гвардия за то, что он ей предпочитал своих гольштинских солдат; дамы за то, что он вместе с ними приглашал на свои пиры актрис, всяких немок; духовенство ненавидело его за его явное презрение к восточной церкви».Издание 1903 года, текст приведен к современной орфографии.

В 1783, в Европе возгорелась война между Турцией и Россией. Граф Рожер тайно уехал из Франции и через несколько месяцев прибыл в Елисаветград, к принцу де Линь, который был тогда комиссаром Венского двора при русской армии. Князь де Линь принял его весьма ласково и помог ему вступить в русскую службу. После весьма удачного исполнения первого поручения, данного ему князем Нассау-Зигеном, граф Дама получил от императрицы Екатерины II Георгиевский крест и золотую шпагу с надписью «За храбрость».При осаде Очакова он был адъютантом князя Потёмкина; по окончании кампании, приехал в Санкт-Петербург, был представлен императрице и награждён чином полковника, в котором снова был в кампании 1789 года, кончившейся взятием Бендер.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В декабре 1971 года не стало Александра Трифоновича Твардовского. Вскоре после смерти друга Виктор Платонович Некрасов написал о нем воспоминания.
