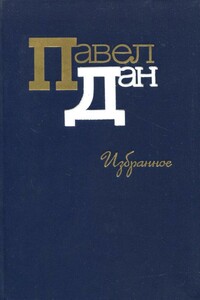В регистратуре - [16]
Перицу вынесли как раз, когда заканчивался экзамен, завершая еще один учебный год, для меня последний. Учитель написал несколько слов, чтобы я произнес их на похоронах Перо. Такого еще и в заводе не было в наших краях. Но крепко прирос Перица к сердцу учителя.
Господа и все родители, пришедшие на экзамен, собрались и на кладбище проводить Перо. И не припомнить, чтобы кто-либо из захороненных на нашем деревенском кладбище удостоился столь многолюдных и торжественных похорон. Обычно помрет на селе мужчина или женщина, трое или четверо несут его в простецком гробу, за которым с причитаниями идут еще двое или трое. А хоронят младенца — отец несет под мышкой гробик, в руке — крест. За ним шагает, горько плача, несчастная мать.
К экзамену я в книги почти и не заглядывал, все необходимое я давно уже подготовил и выучил, как и положено прилежным ученикам. Все свои силы и старания отдал я этой речи. Она показалась мне куцей, я с головой ушел в печальные и горькие мысли, полагая, что непременно должен сказать о них в надгробной речи. К тому же я живо представлял себе одного из соседних священников, славящегося далеко вокруг своими проповедями.
— Ивица, — шепнул мне учитель, когда мы шли за гробом, — ты хорошо выучил? Слушай, теперь ты уже больше не мой ученик, ты покидаешь родной дом, так будь же сегодня моей гордостью, а роду своему — славой!
— Я хорошо выучил, господин учитель, но этого мало, я добавил кое-что еще, печальное, жалостливое.
— Добавил? — удивился учитель. — Что же ты мог добавить? Дай-ка я взгляну.
— Ой, нет! Я ничего не записал. У меня это в сердце, в мыслях. Оно само собой выльется и заставит течь слезы. Я не могу иначе, потому что тогда я… я растеряюсь, а так ваши написанные слова будут для меня как бы указующим перстом, а остальное, что вы услышите, — мое. Так я думаю, так чувствую.
— Ну, давай, давай, Ивица! — задумчиво, хотя и несколько ошеломленно проговорил учитель. — Прославь нас на всю округу!
Гроб поставили возле могилы, священник, благословив, отслужил молебен, и учитель вытолкнул меня вперед из толпы детей.
— Ну, Ивица! Смелее.
Устремив взгляд на гроб, я говорил долго, а слышал только, как сильно стучит мое сердце. Всем существом моим овладела тихая, блаженная грусть. Я не сознавал и не мог дать себе отчета в том, что я говорил и что вообще происходило в те минуты…
Наконец я закончил. Будто очнувшись после глубокого сна, я посмотрел вокруг. Взволнованно дышали крестьяне и крестьянки, давясь громким плачем и причитаниями… Господа уставились на меня потрясенные. Жупник широко раскрыл рот, словно говоря: «Ecce homo»[18]. Учитель меня обнял:
— Сынок, сынок, дорогой мой, ты истинное чудо!
Его громадные, поседелые усы подрагивали, на глазах были слезы. Господа принялись меня гладить по голове и ласково мне улыбаться, а какой-то незнакомый господин, высокий, с огромными синими глазами, вложил мне в каждую руку по большой серебряной монете, о которых отец мой впоследствии утверждал, будто это старые благородные эскудо, которые в нынешние плохие времена встречаются все реже.
С кладбища мы отправились по домам. Школьники шли за мной, как за триумфатором. Женщины и старики то и дело заглядывали мне в лицо, что-то шепча и покачивая головами. Отец шел далеко позади меня, умерив свои обычно широкие шаги, чтобы меня не обгонять, и все время тихо и довольно сам с собой разговаривал: «Ну, Ивица, ай да Ивица! Да из него, пожалуй, получится что-нибудь побольше, нежели деревенский музыкант. И даже побольше, чем слуга или лакей». Сосед наш Каноник тащился настолько же впереди меня, насколько отстал отец. Он сложил на груди руки и словно в три раза удлинил свои короткие ноги, лишь бы его не настигла толпа людей, непрестанно говоривших обо мне. Я был героем не только в этот день, обо мне вспоминали еще очень долго. А одна набожная старушка, жившая чуть ли не за семью горами, в следующее воскресенье, во время утренней мессы, уверяла мою мать, будто когда я говорил, вокруг моей головы сиял чудесный нимб, как у святого Филиппа на алтаре.
Позднее я узнал, что едва я начал говорить над могилой Перо, как Каноника передернуло с головы до ног. Тогда-то он и пробормотал себе под нос: «Этого мне еще не хватало», и тут же замкнулся в себе, помрачнел, уставился в землю, ни на кого не глядел, а о Перо своем не пролил ни одной слезинки. И с трудом дождавшись когда покойного опустят в могилу, прямо-таки убежал с кладбища.
Мы подходили уже к своим холмам, толпа взрослых и детей поворачивала в другую сторону, бабки кричали мне в спину: «Счастливая мать его родила! Берегла его, несмышленыша, и как же его господь одарил, видать, ненадолго задержится он на этом грешном свете».
А сосед наш Каноник приостановился, пронзил меня взглядом, откашлялся, сплюнул, но не произнес ни слова…
Так отнеслись ко мне деревенские.
А господа живо мной заинтересовались. В тот же самый день расспрашивали, кто мой отец. А вот кто, отвечали им: сельский музыкант, бедняк, голодранец.
— Ну, это явление необыкновенное, — вскричал управляющий одного имения, происходивший из родовитой дворянской семьи. В управляющие он пошел оттого, что ему надоела барская жизнь и он решил опроститься, ибо только среди низшего сословия можно еще отыскать источник истинного счастья. Во всяком случае, сам он так объяснял свой поступок, хотя ходили и другие слухи, причем весьма злорадные. Якобы господин этот в юности был подлинным украшением образованных кругов общества… был он неряхой, лентяем, картежником и даже пьяницей. О нем еще тогда сложили песенку: «Всех родовитее из нас — достойный будешь свинопас».

Писатель-классик, писатель-загадка, на пике своей карьеры объявивший об уходе из литературы и поселившийся вдали от мирских соблазнов в глухой американской провинции. Книги Сэлинджера стали переломной вехой в истории мировой литературы и сделались настольными для многих поколений молодых бунтарей от битников и хиппи до современных радикальных молодежных движений. Повести «Фрэнни» и «Зуи» наряду с таким бесспорным шедевром Сэлинджера, как «Над пропастью во ржи», входят в золотой фонд сокровищницы всемирной литературы.

Талант Николая Васильевича Гоголя поистине многогранен и монументален: он одновременно реалист, мистик, романтик, сатирик, драматург-новатор, создатель своего собственного литературного направления и уникального метода. По словам Владимира Набокова, «проза Гоголя по меньшей мере четырехмерна». Читая произведения этого выдающегося писателя XIX века, мы действительно понимаем, что они словно бы не принадлежат нашему миру, привычному нам пространству. В настоящее издание вошли все шедевры мастера, так что читатель может еще раз убедиться, насколько разнообразен и неповторим Гоголь и насколько мощно его влияние на развитие русской литературы.
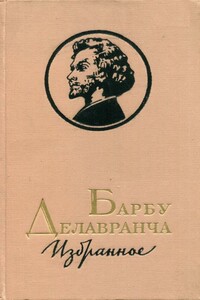
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

«Избранное» классика венгерской литературы Дежё Костолани (1885—1936) составляют произведения о жизни «маленьких людей», на судьбах которых сказался кризис венгерского общества межвоенного периода.