В поисках молодости - [5]
Бывала у нас и другая публика — члены сейма, решившие заступиться за своих избирателей, богатые люди, желавшие докупить земли и заинтересованные в том, чтобы быстрее завершить сделку. К референту изредка заходил настоящий пережиток прошлого — светлейший князь Йонас Гедиминас Бержанскис-Клаусутис, герба Помян, как он подписывался. Старик служил, кажется, в Министерстве финансов. Он просиживал у нас четыре — пять часов, в который раз излагая референту историю своего рода со времен Гедиминаса и показывая какие-то старые бумаги. Видно, для этого человека все счастье и смысл жизни были в его генеалогии.
Позднее мне рассказали про Бержанскиса-Клаусутиса, что он в свое время послал царю по случаю коронации поздравление и подписался светлейшим князем, хотя не имел ни малейшего права на этот титул. Вскоре из царской канцелярии пришла торжественная благодарность от самого Николая II, адресованная «светлейшему князю такому-то». Этим простейшим способом человек получил желанный титул…
В университете начались лекции. Сбежав с работы, мы иногда даже утром оказывались там на какой-нибудь час, чтобы получить в книжке подпись или даже прослушать лекцию, а все вечера проводили в университете. Лекции поначалу проходили лишь на втором этаже здания по улице Мицкевича. Здесь в широком коридоре в перерывах толпились студенты — кто с длинной шевелюрой, на манер старинных поэтов, кто с короткой стрижкой, кто в щегольском костюме при галстуке и белоснежной манишке, кто в залатанных штанах, в башмаках, давно не видевших щетки. Были здесь и студентки — молодые и пожилые, красивые и некрасивые, худые и пухленькие, одетые по последней каунасской моде и в дешевых ситцевых старомодных платьях…
В те годы порядок в университете был совсем не похож на нынешний. Студенты, поступившие в разные годы, вместе слушали одни и те же лекции. В начале и конце семестра университет был битком набит юношами и девушками — все охотились за подписями профессоров в своих зачетных книжках. Потом аудитории и коридоры пустели, студенты ходили только на интересные лекции любимого профессора. На нашем факультете было много обязательных дисциплин, лекции читали с утра до позднего вечера (по вечерам аудитории заполняли студенты, служившие в различных учреждениях), и лишь одиночки кончали университет в четыре года, хотя это и полагалось. Экзамены студенты держали, когда им было угодно и когда они договаривались с профессором. Поэтому многие посещали университет добрый десяток лет, и в коридорах можно было встретить студентов уже не первой и не второй молодости.
На факультете теологии и философии тоже проходили гуманитарные науки (на отделении философии), только в несколько иной окраске. Здесь требования были меньше, предметов не так много, и для того, чтобы окончить учение, достаточно было трех (потом четырех) лет, — клерикалы ускоренным методом готовили себе смену.
Мы стремились в аудитории, желая как можно скорей услышать, что нам расскажут люди, о которых мы знали давно, но еще не видели их.
Самым интересным из профессоров был, без сомнения, Винцас Креве-Мицкявичюс. Кто из нас не читал его «Преданий старых людей Дайнавского края», «Шарунаса», замечательных рассказов — «Пастух», «Селедки», «Бабушкины горести»? Мне казалось, что я увижу крупного, рослого человека, говорящего звонко, оглушительно смеющегося. И как я удивился, когда в аудиторию вошел невысокий человечек, меньше любого студента! Держался он бодро; когда он встал за кафедру, мы видели лишь его голову — крупную, красивую, с зачесанными наверх волосами, бледное лицо с голубыми усталыми глазами. О польской литературе Креве говорил свободно, не глядя в записи, чувствовалось, что свой предмет он знает назубок. Особенно меня поражала его память. Он читал наизусть длиннейшие отрывки из произведений своих любимых поэтов — не только Мицкевича или Словацкого, но и тех, о ком я даже не слышал. Таким же образом он читал и русскую литературу, и здесь он декламировал отрывки, — видно, все перечитано им не раз и все известно. Он читал и восхищался, — казалось, нет на свете ничего прекрасней этих поэтов.
Миколас Биржишка,[6] которого мы уже знали по гимназическим учебникам, написанным запутанным слогом, читал лекции о старой литовской литературе. Взобравшись на кафедру, нацепив пенсне, время от времени поглаживая седую бородку, он говорил как заведенный — монотонно, скучно, ничего не подчеркивая; все казалось какой-то нескончаемой молитвой, и нас одолевала зевота. Громкое имя профессора вскоре разочаровало нас, хотя в своих лекциях он приводил много фактов и материалов.
Балис Сруога, недавно вернувшийся из Мюнхенского университета, поэт, стихами которого мы восхищались, прежде всего привлекал наше внимание своей внешностью. Он был еще молодой, очень высокий, худой, в гольфах, в зеленом френче с оттопыренными карманами. Читал он о немецком романтизме, поминал Тика и Клейста, Эйхендорфа и Шлегелей, цитировал «Северное море» Гейне и стихи других романтиков. Все это казалось нам очень мудрым, хоть и не всегда интересным. Позднее я слушал курс русской литературы, который тоже читал Сруога. Говорил он глуховатым голосом, редко поднимая глаза от текста, — он заранее писал свои лекции.
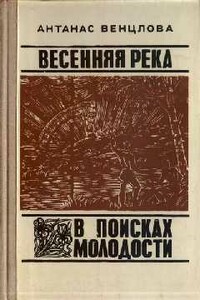
Автобиографические произведения известного литовского писателя Антанаса Венцловы охватывают более чем полувековой путь истории Литвы, отображают революционные события 1905 года и Великой Октябрьской революции, восстановление советской власти в Литве в 1940 году, годы борьбы с фашизмом.Перед читателем проходит история крестьянского паренька, ставшего впоследствии революционером, коммунистом, видным политическим деятелем. Автор рисует целую галерею портретов выдающихся литовских писателей, художников, артистов, педагогов.
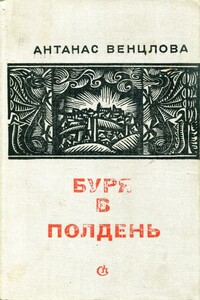
С первых же дней установления Советской власти в Литве Антанас Венцлова (1908—1971 г.г.) принимал активное участие в общественной и культурной жизни республики, работал над составлением проекта Конституции, занимался созданием нового репертуара театров... Обо всем этом и повествуется в документальной повести «Буря в полдень», где проходит целая галерея портретов выдающихся писателей, художников, артистов, педагогов, государственных деятелей. А. Венцлова — участник Великой Отечественной войны — рассказывает также о боевых делах Литовской дивизии и об освобождении Литвы. За огромный вклад в развитие литовской советской литературы лауреату Государственной премии СССР Антанасу Венцлова было присвоено звание народного писателя республики.

«Пазл Горенштейна», который собрал для нас Юрий Векслер, отвечает на многие вопросы о «Достоевском XX века» и оставляет мучительное желание читать Горенштейна и о Горенштейне еще. В этой книге впервые в России публикуются документы, связанные с творческими отношениями Горенштейна и Андрея Тарковского, полемика с Григорием Померанцем и несколько эссе, статьи Ефима Эткинда и других авторов, интервью Джону Глэду, Виктору Ерофееву и т.д. Кроме того, в книгу включены воспоминания самого Фридриха Горенштейна, а также мемуары Андрея Кончаловского, Марка Розовского, Паолы Волковой и многих других.В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

Абвер, «третий рейх», армейская разведка… Что скрывается за этими понятиями: отлаженный механизм уничтожения? Безотказно четкая структура? Железная дисциплина? Мировое господство? Страх? Книга о «хитром лисе», Канарисе, бессменном шефе абвера, — это неожиданно откровенный разговор о реальных людях, о психологии войны, об интригах и заговорах, покушениях и провалах в самом сердце Германии, за которыми стоял «железный» адмирал.

Максим Семеляк — музыкальный журналист и один из множества людей, чья жизненная траектория навсегда поменялась под действием песен «Гражданской обороны», — должен был приступить к работе над книгой вместе с Егором Летовым в 2008 году. Планам помешала смерть главного героя. За прошедшие 13 лет Летов стал, как и хотел, фольклорным персонажем, разойдясь на цитаты, лозунги и мемы: на его наследие претендуют люди самых разных политических взглядов и личных убеждений, его поклонникам нет числа, как и интерпретациям его песен.

Начиная с довоенного детства и до наших дней — краткие зарисовки о жизни и творчестве кинорежиссера-постановщика Сергея Тарасова. Фрагменты воспоминаний — как осколки зеркала, в котором отразилась большая жизнь.

Николай Гаврилович Славянов вошел в историю русской науки и техники как изобретатель электрической дуговой сварки металлов. Основные положения электрической сварки, разработанные Славяновым в 1888–1890 годах прошлого столетия, не устарели и в наше время.

Книга воспоминаний известного певца Беньямино Джильи (1890-1957) - итальянского тенора, одного из выдающихся мастеров бельканто.