В мире отверженных. Записки бывшего каторжника. Том 2 - [132]
Однажды Кадаю посетил заведующий каторгой, и мне пришло в голову обратиться к нему с просьбой о разрешении — получив от сестры из ближайшего пункта телеграмму, выехать навстречу ей на последнюю станцию. Просьба была, правда, очень щекотливая, успех крайне сомнителен, но я решил попытать счастья. Здесь впервые пришлось мне разговаривать с заведующим лицом к лицу. Он принял меня в кабинете Кострова наедине и хотя сесть не пригласил, но зато и сам в продолжение, беседы стоял на ногах. На умном, почти хитром лице этого худенького, невзрачного, но обстрелянного в боях человека лежала всегда маска холодной непроницаемости; никто и никогда не мог бы сказать, что он думает про себя о том или другом предмете; искренне или с какой-либо задней мыслью говорит так или иначе. Голос его всегда был мягок, ровен, почти ласков, безразлично — заключали ли в себе его слова милость или смертный приговор.
Сверх всякого ожидания, к просьбе моей заведующий отнесся без всякого удивления, с видимой даже благосклонностью, и только попытался отговорить ехать.
— Я вполне уверен, что вы не бежите, — сказал он с легкой тенью улыбки на каменном лице, — и охотно готов отпустить без всякого конвоя, но… в ваших же собственных интересах не предпринимать этой поездки. Вы, наверное, разъедетесь с вашей сестрой. Она, вы говорите, едет с попутчиком, и если он — что всего вероятнее — какой-нибудь чиновник из завода, то они могут на земских лошадях ехать. Вы будете ждать на почтовой станции, а они на земской квартире остановятся.
— Такой случай легко предупредить, — парировал я это соображение, — на земской квартире я сделаю на всякий случай заявление о себе.
Заведующий сухо наклонил голову.
— Хорошо. Но… более, чем на одни сутки, я не вправе отпустить вас без конвоя.
Я поклонился.
— Надеюсь, этого срока мне будет вполне достаточно.
Однако, когда прошло после того целых пять дней, а от Тани, давно находившейся в Чите, не приходило никаких новых известий, я ужасно заволновался. В мозгу моем зародилось даже подозренье, что заведующий нарочно распорядился позднее отослать мне телеграмму, чтобы расстроить эту не совсем желательную ему поездку…
Раз поздним вечером над Кадаей разразилась сильная, первая в этом году, гроза… Дождь лил свирепыми потоками, гром гремел почти не переставая, а молнии сверкали в разных местах неба так часто, что в воздухе стоял почти сплошной яркий свет, лишь на короткие мгновения прерываемый густым, черным мраком. Сидя в одиночестве подле окна, в темной комнате, я с отчетливостью различал все окрестные сопки, в грозном безмолвии и неподвижности, точно часовые, стоявшие на своих постах. Мне было невыразимо грустно и больно; сильнее чем когда-либо давало себя чувствовать одиночество изгнанника…
Вдруг резкий, нетерпеливый стук в наружную дверь прервал мои меланхолические размышления, и вслед за тем послышался знакомый голос:
— Иван Николаевич, спите?.. Отворите, а то потону вовсе! Тилеграм!..
Это был рассыльный Василий с желанной телеграммой в руках, заключавшей в себе одно только слово: «Еду».
Одна мысль, одно чувство охватили меня: «Пора!»… С радостным волнением бросился я к хозяину, который заранее обещал повезти меня во всякое время дня и ночи, когда только будет нужно. Оказалось, однако, не так-то легко заставить сибиряка в ту же минуту тронуться с места. Хозяин Иван Григорьевич, накануне был, по обыкновению, пьян и теперь спал богатырским сном, так что с помощью всей его семьи мне стоило немалого труда поднять его и добиться членораздельных звуков. Но и эти звуки в начале были малоутешительны.
— Как же это так? Ведь оно того… Теметь-то вишь какая на дворе… Гремит-то как!
Но я был неумолим и убедительно взывал к чувству верности данному раз слову. Тогда, почесавшись еще немного и раздумчиво посопев носом, Иван Григорьевич схватился внезапно с места и как стрела ринулся, в чем был, на улицу, чтобы произвести там необходимые метеорологические наблюдения. Дождь уже прекратился, и только там и сям рокотали еще в ночной тишине бешено струившиеся потоки воды; им глухо вторил замиравший в отдалении гром; молнии вспыхивали значительно слабее и реже, но зато теперь было так темно, что в двух аршинах трудно было разглядеть человека.
— Теметь-то, главное дело, вот беда! — сконфуженно обратился ко мне Иван Григорьевич, безнадежно ударив себя рукой по бедру. — Дорогу-то, главное, всю размыло. Того и гляди в колдобину влетим, себе и коням ребра поломаем. Вот ведь что главное дело! Нельзя ли месяца хоть дождаться?
— А скоро ли он взойдет?
— Через час, много два беспременно объявиться должен… Потому, главное дело, теметь страшенная, колдобин понамыто дождем! А то я с моим, конечно, удовольствием…
Приходилось покориться и ждать месяца. Накормив лошадей и выправив свой фурман (тарантас), Иван Григорьевич отправился еще немного вздремнуть, я же ни на одну минуту не мог сомкнуть глаз. Приятная, сладкая дрожь то и дело пробегала по всему телу… Десятки раз выходил я на улицу, и, вероятно, ни один в мире влюбленный не искал никогда с более страстным нетерпением появления на горизонте ночного светила. Но всюду по-прежнему царил мрак, и даже безгромные далекие зарницы поблескивали все реже и реже. Ежеминутно поглядывал я на часы, и вот наконец, ровно в два часа ночи, на краю неба забрезжило слабое зарево…
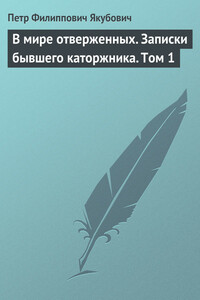
Среди литературы, посвященной царской каторге второй половины XIX века, главным образом документальной, очерковой, этнографической, специальной (Чехов, Максимов, Дж. Кеннан, Миролюбов, Ядринцев, Дорошевич, Лобас, Фойницкий и др.), ни одна книга не вызвала такой оживленной полемики, как «В мире отверженных». В литературном отношении она была почти единодушно признана выдающимся художественным произведением, достойным стоять рядом с «Записками из мертвого дома» Достоевского. Сам Якубович, скромно оценивая свой труд, признавал, что его замысел сложился под влиянием замечательного творения Достоевского.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В настоящее издание включены все основные художественные и публицистические циклы произведений Г. И. Успенского, а также большинство отдельных очерков и рассказов писателя.

В настоящее издание включены все основные художественные и публицистические циклы произведений Г. И. Успенского, а также большинство отдельных очерков и рассказов писателя.
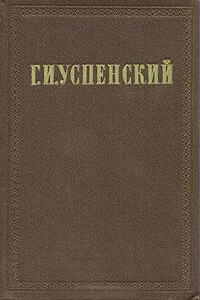
В настоящее издание включены все основные художественные и публицистические циклы произведений Г. И. Успенского, а также большинство отдельных очерков и рассказов писателя.

В настоящее издание включены все основные художественные и публицистические циклы произведений Г. И. Успенского, а также большинство отдельных очерков и рассказов писателя.

Впервые напечатано в сборнике Института мировой литературы им. А.М.Горького «Горьковские чтения», 1940.«Изложение фактов и дум» – черновой набросок. Некоторые эпизоды близки эпизодам повести «Детство», но произведения, отделённые по времени написания почти двадцатилетием, содержат различную трактовку образов, различны и по стилю.Вся последняя часть «Изложения» после слова «Стоп!» не связана тематически с повествованием и носит характер обращения к некоей Адели. Рассуждения же и выводы о смысле жизни идейно близки «Изложению».

Впервые напечатано в «Самарской газете», 1895, номер 116, 4 июня; номер 117, 6 июня; номер 122, 11 июня; номер 129, 20 июня. Подпись: Паскарелло.Принадлежность М.Горькому данного псевдонима подтверждается Е.П.Пешковой (см. хранящуюся в Архиве А.М.Горького «Краткую запись беседы от 13 сентября 1949 г.») и А.Треплевым, работавшим вместе с М.Горьким в Самаре (см. его воспоминания в сб. «О Горьком – современники», М. 1928, стр.51).Указание на «перевод с американского» сделано автором по цензурным соображениям.