В дни войны: Семейная хроника - [62]
В нашем товарном поезде мы совсем перестали бояться бомбардировок: ехали по мирной земле, далеко от войны. На стоянках — только на вокзале и около были военные, да и то не в большом количестве, а в деревнях и городках, как и по всей России, все женщины и старики, совсем не видно молодых сильных мужчин. Все на фронте. Или на Урале и в Сибири, на заводах, работающих на войну, на оборону.
В вагоне на верхней полке мы читали мальчикам Романовским вслух, играли с ними в разные игры, которые они везли с собою, вроде «тише едешь — дальше будешь», и в детские карты. И много спали. Жизнь шла под стук колес. Подъехали к Орехово-Зуеву — центру текстильной промышленности России и СССР. Хорошо помню его по учебнику истории ВКП/б: это еще одна «колыбель революции», но поменьше. Поезд остановился, не доехав до станции, и долго стоял в поле. Было очень тихо. Но все насторожились, отодвинули дверь теплушки. Кто-то, проходя вдоль состава, сообщил, что сейчас бомбят Москву, и потому никаких составов Орехово-Зуево не принимает. Стояли мы много часов и боялись выйти из теплушки: вдруг дернется состав и поедет без предупреждения. Только стояли у открытой двери и слушали. Но ничего не услышали. Поздно вечером нам разрешили въехать в вокзал, и мы, гремя кастрюлями, устремились за супом в эвакопункт вокзала. Уже третью неделю мы ехали в нашей теплушке. Только из окошечка над нашими нарами видели страну. Все казалось однообразным и похожим: изо дня в день под стук колес мелькали деревушки в снегу, леса в снегу, бескрайние снежные дали. И станции, на которых нас кормили — одна похожа на другую; те же больные и выздоравливающие ленинградцы, те же большие котлы с «толстым» супом и сухой паек. Но все было организовано очень хорошо, и очереди к котлам были хоть и длинные, но спокойные и быстро двигались. И никто не ссорился.
В одну из таких остановок была моя очередь идти с кастрюлей на станцию (мама всегда оставалась в вагоне). Мы ехали весь день и теперь уже наступила ночь, холодная, ветреная. Настоящий трескучий мороз и ветер, пронизывающий, сразу налетевший на меня, как только я отошла от теплушки. Когда я вошла в вестибюль станции со своей кастрюлей, на меня пахнул запах удушливого тепла, грязного человеческого тела, грязных ног и солдатских сапог. Весь широкий вестибюль был буквально набит красноармейцами. Они откуда-то пришли погреться. Когда я вошла, они расступились на мгновение и снова сомкнулись, и я оказалась сжатой со всех сторон людьми в пахучих шинелях. Мелькнула мысль: сейчас на меня поползут вши — я пропала! Издали, из столовой, меня увидел Романовский, пробился ко мне, схватил за руку и, расталкивая толпу, буквально выволок меня в столовую: «Вы не должны были входить!» Как же не входить, если я шла за супом? Когда Р. и я с наполненными кастрюлями возвращались из столовой, в вестибюле уже никого не было, все ушли, очевидно, на посадку, и тяжелый запах согревшихся тел уже выветривался. Двери почти не закрывались, ленинградцы шли за супом непрерывным потоком… Надеюсь, что и им, греющимся солдатам, кто-нибудь позаботился дать, как и нам, горячего «толстого» супа!
Мы приближались к Сталинграду (Царицыну). Все дни и все ночи были похожи один на другой, часть дня поезд стоял на станциях, потом ехал без остановок остаток дня и всю ночь. В Сталинград приехали в конце четвертой недели нашего пути. В солнечный зимний день. Мне показалось, что это первый солнечный день за все время войны. Отправились с сестрой посмотреть на город. Долго ходили по улицам, площадям. Много новостроек, много ярко освещенных разноцветных старых зданий. Мне город понравился. И солнце тепло согревало лицо, и везде — много людей и все здоровые, быстрые.
У меня заболела голова, сначала я думала, от обилия яркого солнца и много-цветности города, — мы вернулись на вокзал, к нашим теплушкам. Голова все сильнее болела, с трудом залезла на наши нары — и потеряла сознание. Память сохранила только отдельные куски остальной части пути до Кавказа. Выехав из Сталинграда, мы переезжали металлический мост, колеса стучали, лязгали, и каждый толчок был нестерпим для больной тяжелой головы. Мама приподняла мою голову к окошечку, и из далекого далека я услышала ее голос. «Посмотри — это Волга», но я только увидела мелькание переплетов железнодорожного моста и снег, везде снег. Потом, помню, меня поднимали, усаживали, подпирали сзади, а раскаленная больная голова все клонилась: в вагон пришла санитарная комиссия — снимать с поезда всех больных, и я должна была выглядеть здоровой. Смутно помню белые халаты, лица спутников, озабоченные, и бодрый голос Романовского. Он, улыбаясь, говорил: «В вагоне — все здоровы», и никто в вагоне не заикнулся, что я тяжело больна. (А у Романовского — два мальчика на нашей общей полке!)
Еще раз очнулась, когда меня на носилках вытаскивали из теплушки: мама рядом, я ей пытаюсь объяснить, что я не хочу быть «безымянной» чтоб мама не отходила, а мама не понимает и чуть не плачет: «Ты же моя Римочка…», — думает, это я — в бреду.
Мы приехали в Ессентуки — конец нашего пути. Приехали ночью, ночевали на вокзале, на скамьях, и только я — на носилках, а утром нас перевезли на извозчиках в школу, где мы временно должны были жить. Все было в тумане, и я, хоть и всматривалась, но видела только туман, мне так хотелось увидеть ласковое лицо — родное, но никто не появлялся, иногда — чужое лицо доктора, он сказал: «Тиф», а я не могу вспомнить, что такое тиф — наконец, поняла: тиф — это война, я больна войною…
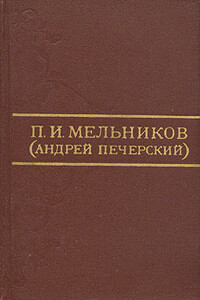
Встречи с произведениями подлинного искусства никогда не бывают скоропроходящими: все, что написано настоящим художником, приковывает наше воображение, мы удивляемся широте познаний писателя, глубине его понимания жизни.П. И. Мельников-Печерский принадлежит к числу таких писателей. В главных его произведениях господствует своеобразный тон простодушной непосредственности, заставляющий читателя самого догадываться о том, что же он хотел сказать, заставляющий думать и переживать.Мельников П. И. (Андрей Печерский)Полное собранiе сочинений.
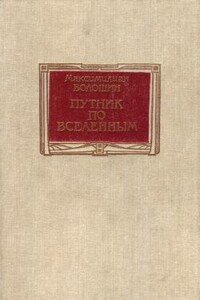
Книга известного советского поэта, переводчика, художника, литературного и художественного критика Максимилиана Волошина (1877 – 1932) включает автобиографическую прозу, очерки о современниках и воспоминания.Значительная часть материалов публикуется впервые.В комментарии откорректированы легенды и домыслы, окружающие и по сей день личность Волошина.Издание иллюстрировано редкими фотографиями.
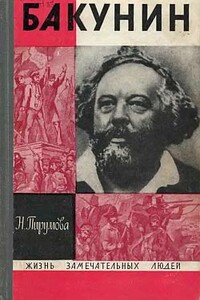
Михаил Александрович Бакунин — одна из самых сложных и противоречивых фигур русского и европейского революционного движения…В книге представлены иллюстрации.

«Преподавателям слово дано не для того, чтобы усыплять свою мысль, а чтобы будить чужую» – в этом афоризме выдающегося русского историка Василия Осиповича Ключевского выразилось его собственное научное кредо. Ключевский был замечательным лектором: чеканность его формулировок, интонационное богатство, лаконичность определений завораживали студентов. Литографии его лекций студенты зачитывали в буквальном смысле до дыр.«Исторические портреты» В.О.Ключевского – это блестящие характеристики русских князей, монархов, летописцев, священнослужителей, полководцев, дипломатов, святых, деятелей культуры.Издание основывается на знаменитом лекционном «Курсе русской истории», который уже более столетия демонстрирует научную глубину и художественную силу, подтверждает свою непреходящую ценность, поражает новизной и актуальностью.

«Преподавателям слово дано не для того, чтобы усыплять свою мысль, а чтобы будить чужую» – в этом афоризме выдающегося русского историка Василия Осиповича Ключевского выразилось его собственное научное кредо. Ключевский был замечательным лектором: чеканность его формулировок, интонационное богатство, лаконичность определений завораживали студентов. Литографии его лекций студенты зачитывали в буквальном смысле до дыр.«Исторические портреты» В.О.Ключевского – это блестящие характеристики русских князей, монархов, летописцев, священнослужителей, полководцев, дипломатов, святых, деятелей культуры.Издание основывается на знаменитом лекционном «Курсе русской истории», который уже более столетия демонстрирует научную глубину и художественную силу, подтверждает свою непреходящую ценность, поражает новизной и актуальностью.

Эти биографические очерки были изданы около ста лет назад отдельной книгой в серии «Жизнь замечательных людей», осуществленной Ф. Ф. Павленковым (1839—1900). Написанные в новом для того времени жанре поэтической хроники и историко-культурного исследования, эти тексты сохраняют по сей день информационную и энергетико-психологическую ценность. Писавшиеся «для простых людей», для российской провинции, сегодня они могут быть рекомендованы отнюдь не только библиофилам, но самой широкой читательской аудитории: и тем, кто совсем не искушен в истории и психологии великих людей, и тем, для кого эти предметы – профессия.