В дни войны: Семейная хроника - [57]
А пока мы сделались бездомным и никто нас нигде не ждал и ехали мы — неизвестно куда. Войне и страданиям, казалось, не будет конца, а длилась война еще только неполных девять месяцев, даже года не прошло, а казалось — полжизни.
Толпа стала заметно редеть. Постепенно всех уводили на посадку в вагоны. И нас тоже, наконец, позвали и повели к вагонам. К составу дачных вагонов. Залезая в вагон, мама вспомнила, что забыла на площади свой чемодан. Разве теперь найдешь? Я вернулась на площадь поискать его — и нашла: мамин чемодан стоял одиноко на затоптанном снегу, на опустевшей, темной теперь, площади.
Когда я вернулась к составу, наша группа уже разместилась в холодных неосвещенных купе, в обычных «твердых» дачных вагонах. Папа и Романовский стояли у двери вагона. Папа обрадовался, увидя меня с маминым чемоданом в руках — «вот умная дочка!» — и заторопил меня. Мы должны были скоро отправляться. Ехать ночью — безопаснее. Весь вагон был набит людьми и багажом, и даже не казалось, что слишком холодно. Перед отъездом папа и Р. получили на институт хлеб, и теперь все сидели на скамьях, на вещах, между. сиденьями, в коридоре и жевали свой последний ленинградский паек. Было тесно и очень тихо. И совсем темно, когда поезд тронулся. Не было ни звонков, ни гудков — просто вагон дернулся, и мы поехали. Папа наклонился к нам из темноты и тихо сказал: «Ну, вот, ребятки, — поехали из Ленинграда…» Мы должны были проехать не очень большое расстояние до Борисовой Гривы. Предполагалось, что прибудем туда утром.
Поезд двигался очень медленно, совсем бесшумно, часто останавливался, как будто хотел прислушаться. Напротив нас на скамейке сидели Ягудины (Герш и Лиа), сидели очень тихо, не разговаривали между собой, не двигались. Она, прижав младенца к себе. Младенец тихо плакал и кашлял. Меня очень беспокоил этот странный, захлебывающийся кашель (вроде коклюша, но он такой еще маленький!). Шепотом спросила Ягудину, что с ребенком, не болен ли он. «Нет, он смеется, — сказала мать, — он поел и теперь смеется…» Всю ночь, склонившись к маленькому сыну, она тихонечко декламировала ему стихи Блока. Ночь темная, опасная, полна неизвестности, и младенец все реже и тише кашляет — и совсем затих. А мать над ним, как заклинание читает Блока:
Ягудины своего маленького сына отдали чужим людям, чтоб они похоронили его в Борисовой Гриве, не в общей могиле. В Борисову Гриву мы приехали рано утром.
Перед железнодорожными путями, на большом пространстве и за вокзалом, темная толпа беженцев с узлами на затоптанном снегу. Кругом, немного дальше, все покрыто снегом — чистым, глубоким. И темные деревянные постройки под снегом, и сосны — со снежными шапками на черных ветках. У самых железнодорожных путей — покойники. Те, кто не доехал до вечера живьем. Их складывают в стороне от вокзала около сосен на снегу, как дрова, штабелями, ровными рядами, выше человеческого роста. Под свинцовым небом. «Старые» штабеля уже запорошены снегом, почти не видны. Их пока не вывозят, только складывают, чтоб они не мешали спасать еще живых. Наш поезд приехал в Борисову Гриву утром, и мы сидели за вокзалом на вещах, ожидая очереди грузиться. Было очень холодно и, как всегда, голодно. Здесь нас не кормили. А последний ленинградский хлеб мы съели еще ночью. Все было как-то крепко организовано, лучше, чем на Финляндском вокзале. Появились совершенно здоровые люди со списками в руках, в сопровождении папы. Папа выглядел восковым рядом с ними, хотя и очень оживленным. Мне показалось, что его так знакомая меховая шапка сделалась ему велика, а из бобрового воротника шубы видна была худая, почти детская шея. Нам сказали, что после полудня нас отправят через озеро и на «той» стороне нас будут кормить, что путь через озеро не опасен — немцы очень мало обстреливают «дорогу» и давно не бомбили.
Озеро совсем не походило на озеро, даже зимнее, а на огромное, бескрайнее поле, заледенелое и заснеженное, с кочками льда, высокими, ветром наметенными сугробами, уходящее вдаль, за горизонт. И по нему — широкий тракт, с глыбами льда и опять сугробами. По тракту в обе стороны ползли крытые брезентом грузовики. Только что не было нигде ни деревца, ни построек. В моей памяти сохранился весь зимний военный Ленинград, весь путь от Борисовой Гривы, через озеро, на восток, как черно-белая гравюра: везде снег, на фоне белого снега —, черные фигуры людей, как медленно передвигающиеся мурашки. На фоне снега — железнодорожные пути, на фоне снега и серого неба — черные леса, черные дома. Цвет я ощутила, как праздник, во время пути на юг, у Сталинграда, когда вдруг воздух сделался весенне-теплым, солнышко ярким, и мы ходили по городу, я любовалась многоцветностью дня, домов, как будто с глаз спала ледяная завеса.
После полудня, как было обещано, нам подали грузовики для института. Крытые сверху черной парусиной, открытые сзади. Нам помогали поднимать вещи в кузов здоровые люди, участвовавшие в эвакуации ленинградцев. Маму усадили в кабину, я залезла со студентами в кузов машины на тюки и вещи. Папа и сестра ехали в других грузовиках. Мы тронулись в путь — нам сказали на прощание, что переедем через озеро часа через полтора или это продлится около двух часов. Поехали. Грузовик покачивался, подскакивал на неровном ледяном пути. Меня сразу же укачало, и почти всю дорогу через озеро я была как в забытьи. Очнулась, когда грузовик перестал пыхтеть, качаться и греметь и остановился: мы переехали озеро.
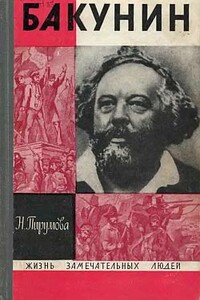
Михаил Александрович Бакунин — одна из самых сложных и противоречивых фигур русского и европейского революционного движения…В книге представлены иллюстрации.

Предлагаем третью книгу, написанную Кондратием Биркиным. В ней рассказывается о людях, волею судеб оказавшихся приближенными к царствовавшим особам русского и западноевропейских дворов XVI–XVIII веков — временщиках, фаворитах и фаворитках, во многом определявших политику государств. Эта книга — о значении любви в истории. ЛЮБОВЬ как сила слабых и слабость сильных, ЛЮБОВЬ как источник добра и вдохновения, и любовь, низводившая монархов с престола, лишавшая их человеческого достоинства, ввергавшая в безумие и позор.

«Преподавателям слово дано не для того, чтобы усыплять свою мысль, а чтобы будить чужую» – в этом афоризме выдающегося русского историка Василия Осиповича Ключевского выразилось его собственное научное кредо. Ключевский был замечательным лектором: чеканность его формулировок, интонационное богатство, лаконичность определений завораживали студентов. Литографии его лекций студенты зачитывали в буквальном смысле до дыр.«Исторические портреты» В.О.Ключевского – это блестящие характеристики русских князей, монархов, летописцев, священнослужителей, полководцев, дипломатов, святых, деятелей культуры.Издание основывается на знаменитом лекционном «Курсе русской истории», который уже более столетия демонстрирует научную глубину и художественную силу, подтверждает свою непреходящую ценность, поражает новизной и актуальностью.

«Преподавателям слово дано не для того, чтобы усыплять свою мысль, а чтобы будить чужую» – в этом афоризме выдающегося русского историка Василия Осиповича Ключевского выразилось его собственное научное кредо. Ключевский был замечательным лектором: чеканность его формулировок, интонационное богатство, лаконичность определений завораживали студентов. Литографии его лекций студенты зачитывали в буквальном смысле до дыр.«Исторические портреты» В.О.Ключевского – это блестящие характеристики русских князей, монархов, летописцев, священнослужителей, полководцев, дипломатов, святых, деятелей культуры.Издание основывается на знаменитом лекционном «Курсе русской истории», который уже более столетия демонстрирует научную глубину и художественную силу, подтверждает свою непреходящую ценность, поражает новизной и актуальностью.

Эти биографические очерки были изданы около ста лет назад в серии «Жизнь замечательных людей», осуществленной Ф.Ф.Павленковым (1839-1900). Написанные в новом для того времени жанре поэтической хроники и историко-культурного исследования, эти тексты сохраняют ценность и по сей день. Писавшиеся «для простых людей», для российской провинции, сегодня они могут быть рекомендованы отнюдь не только библиофилам, но самой широкой читательской аудитории: и тем, кто совсем не искушен в истории и психологии великих людей, и тем, для кого эти предметы – профессия.

Эти биографические очерки были изданы около ста лет назад отдельной книгой в серии «Жизнь замечательных людей», осуществленной Ф. Ф. Павленковым (1839—1900). Написанные в новом для того времени жанре поэтической хроники и историко-культурного исследования, эти тексты сохраняют по сей день информационную и энергетико-психологическую ценность. Писавшиеся «для простых людей», для российской провинции, сегодня они могут быть рекомендованы отнюдь не только библиофилам, но самой широкой читательской аудитории: и тем, кто совсем не искушен в истории и психологии великих людей, и тем, для кого эти предметы – профессия.