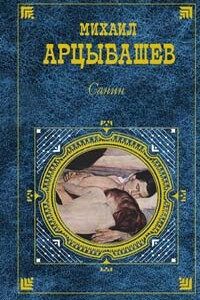Ужас - [5]
Дверь стукнула, и, пугаясь звука, они сжались, побледнели и замолчали.
Вошел становой. На нем была холодно-серая шинель с блестящими пуговицами, твердая шашка. Лицо казалось каменным и глаза — металлическими. И весь он — серый и твердый.
Он подошел к столу, оперся на него руками и сказал, глядя в стену между ними:
— Сейчас начнем дознание…
И, не видя, но чувствуя, как они побледнели, он скривил на сторону губы и проговорил:
— А славно провели ночку… Жаль, дура попалась. Ну, ничего.
Он насмешливо посмотрел по очереди на того и другого и сурово, меняя голос, прибавил:
— Как бы там ни было, а нам не пропадать же из-за бабы… Надо выкручиваться. Что ж?.. Вот я сейчас узнал, что двое мужиков видели, как сторож Матвей Повальный выходил ночью из школы… А?..
— Ну что ж?.. — беззвучно спросил доктор. И опять черная юркая мысль выскочила в мозгу следователя. В горле у него всхлипнуло что-то радостное.
— Вот и спасение!.. Изнасилования не будет, будет грабеж… Грабеж понятнее и не так громок!.. Понимаете?.. Сторожа сбить с толку не трудно, я берусь… А изнасилования не надо…
— Ага… — как будто прислушиваясь к чему-то отдаленному и вытянув длинную жилистую шею, протянул становой.
А следователь торопливо, брызгая слюной и с безумной быстротой бегая глазами, шептал и хватался за рукав серой шинели.
По мере того, как он говорил, чтобы свалить все на сторожа, толстый, вздутый доктор как будто слабел и раскисал. Новый ужас — еще ужас! — вставал перед ним, облеченный в трусливую, рвущуюся речь, и доктору казалось, что он не вынесет. И когда следователь замолчал, доктор грузно и бессильно опустился на стул, ударив локтями о стол, и, закрыв лицо толстыми пухлыми пальцами, глухо проговорил:
— Да, ведь это… Господи, что же это такое?
Становой медленно повернул к нему неподвижное железное лицо.
— А что ж делать? — холодно спросил он.
— Да ведь за это каторга… За нас невинный человек пойдет!
На личике следователя все сильнее и сильнее разыгрывалось что-то безудержно дикое, какой-то исступленный восторг спасшегося зверя.
— Ну так что же? — твердо и жестоко, так спокойно, как самое обычное, сказал становой.
— Это невозможно… я не могу! — простонал доктор, еще крепче прижимая пальцы к лицу.
— Как это — не могу! — взвизгнул следователь.
— Нет, не могу… — не открывая лица, покачал головою доктор. И голос у него был скорбный, подавленный и глухой: — Не могу…
— А мог?! — крикнул следователь.
— То… не знаю как… случилось… Ну что ж… А этого не могу!.. — так же глухо возразил доктор.
— А, не можете? А в каторгу на двенадцать лет… а? — с бесконечной ненавистью и кошачьим торжеством, нагибаясь к самому его уху, спросил следователь. — А жена, а семья… а?
Доктор быстро оторвал руку от красного, мокрого, вспухшего лица, неподвижно посмотрел на него мутными, безумными глазами и, вдруг упав головой на стол, визгливо заплакал и застонал.
— Боже мой, Боже мой… что же это такое? Что же это такое?..
Голова его прыгала и ездила на краю стола, как большой мягкий пузырь.
— Да уймите его… — с холодным презрением сказал становой, отходя от стола. — Что тут дурака ломать… Не понимаю…
Доктор начал захлебываться, а потом стало казаться, будто он начинает громко и страшно хохотать.
Следователь пугливо бросился за водой, тыкал стучащий стакан в мокрые зубы доктора и трусливо твердил:
— Перестаньте… Ну, что это вы?.. Ну, поиграли с девочкой… пьяны были… На нашем месте и всякий то же самое сделал бы… Что, мы ей смерти хотели, что ли? Выпейте воды… Перестаньте… Не кричите… Ну, вышло так, что же делать…
Становой вдруг не то застонал, не то засмеялся. Следователь испуганно повернулся к нему, и одно мгновение что-то странное показалось ему: точно все сошли с ума и он сам, и по черепу у него прошла судорожная дрожь. Становой рванулся с места, вышиб у него из рук стакан, со звоном ударившийся об пол, и, с бешеной силой схватив доктора за плечи, прокричал:
— Замолчи… тебе говорят, сволочь паршивая!.. Убью!!
Доктор трясся в его руках, как будто голова его отрывалась от тела, и беспомощно лепетал:
— Я п… поним… маю… п… пустите… я ни-ч-че-го…
VI
Еще с вечера невидимая и неслышимая, ползущая тайно, из уст в уста, пошла во все стороны тяжелая молва о злодеянии. Было совсем глухо и тихо, но в этой мертвой тишине отчаянный крик, казалось, летел от человека к человеку, и в душах становилось больно, страшно, и тяжелое, кошмарное рождалось возмущение. Оно таилось в глубине и как будто уходило все глубже и глубже, но вдруг, не известно никому, как и где, точно крикнул в толпе какой-то панический голос, оно вырвалось наружу, вспыхнуло и покатилось из края в край. На рассвете рабочие на бумагопрядильной фабрике и на ближайшей железной дороге побросали работы и черными кучками поползли через поля в деревню.
— Сами убили да сами и суд вели, — заговорил тяжелый, глухой голос, и в его шепоте стало нарастать что-то огромное, общее, грозное, как надвигающаяся туча.
Оно росло с сокрушающей силой и стремительной быстротой. И в своем стихийном движении увлекало за собой все потаенное, задавленное, вековую обиду. Казалось, тень маленькой замученной женщины, в детских черных чулках с наивными голубыми подвязками, воплотила вдруг в себе что-то общее, светлое, молодое, милое, бесконечно и безнадежно задавленное и убитое. Не хотелось верить, не хотелось жить, и ноги сами собой шли в ту сторону, как на зов погибающего голоса, сами собой принимали грозное и отчаянное выражение.
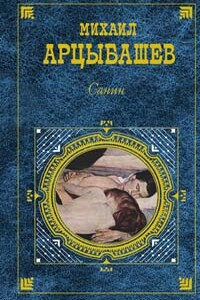
Михаил Арцыбашев (1878–1927) — один из самых популярных беллетристов начала XX века, чье творчество многие годы подвергалось жестокой критике и лишь сравнительно недавно получило заслуженное признание. Роман «Санин» — главная книга писателя — долгое время носил клеймо «порнографического романа», переполошил читающую Россию и стал известным во всем мире. Тонкая, деликатная сфера интимных чувств нашла в Арцыбашеве своего сильного художника. «У Арцыбашева и талант, и содержание», — писал Л. Н. Толстой.Помимо романа «Санин», в книгу вошли повести и рассказы: «Роман маленькой женщины», «Кровавое пятно», «Старая история» и другие.

Психологическая проза скандально известного русского писателя Михаила Арцыбашева, эмигрировавшего после 1917 года.
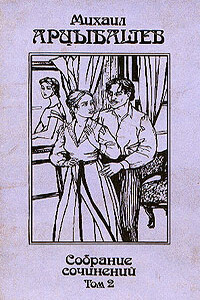
После десятилетий хулений и замалчиваний к нам только сейчас наконец-то пришла возможность прочитать книги «запрещенного», вычеркнутого из русской литературы Арцыбашева. Теперь нам и самим, конечно, интересно без навязываемой предвзятости разобраться и понять: каков же он был на самом деле, что нам близко в нем и что чуждо.

После десятилетий хулений и замалчиваний к нам только сейчас наконец-то пришла возможность прочитать книги «запрещенного», вычеркнутого из русской литературы Арцыбашева. Теперь нам и самим, конечно, интересно без навязываемой предвзятости разобраться и понять: каков же он был на самом деле, что нам близко в нем и что чуждо.

Истинным ценителям черной прозы, готики, хоррора. Потусторонний мир глазами русских писателей-мистиков. Здесь нет кровавой расчлененки, демонов, разрывающих на куски блондинок и прочих «страшилок», которые мы привыкли находить под обложками книг обозначенных как «ужасы». Это скорее "темная проза", мрачная философия о человеческом одиночестве… Но прочесть эту книгу следует обязательно! Хотя бы за красоту слога и стиля.Только самое страшное, леденящее кровь и душу, жуткое, но при этом безумно красивое. Враждебный холод зеркал, выходы в астрал, осознанные сновидения, сатанинские ритуалы и пограничные состояния.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Впервые опубликовано – в альманахе «Война золотом. Альманах приключении», М. 1927. Издание это изобилует опечатками, обессмысливающими текст. Печатается по автографу (ЦГАЛИ).

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

После десятилетий хулений и замалчиваний к нам только сейчас наконец-то пришла возможность прочитать книги «запрещенного», вычеркнутого из русской литературы Арцыбашева. Теперь нам и самим, конечно, интересно без навязываемой предвзятости разобраться и понять: каков же он был на самом деле, что нам близко в нем и что чуждо.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.