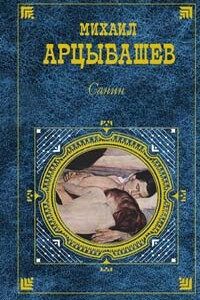Ужас - [4]
Становой первый вошел в комнату и прямо подошел к трупу Ниночки, неподвижно и холодно сквозившемуся сквозь простыню. Одну секунду он смотрел ей прямо в страшное мертвое лицо, потом отвернулся и глухо, железным голосом сказал:
— Тащи…
Оба десятских проворно бросили шапки за дверь и, осторожно топоча лаптями, подошли к кровати. Руки у них дрожали, и ужас, и жалость видны были даже на согнутых, напряженных спинах, но дыхание их было тупо и покорно.
— Живее, — тем же глухим и привычно твердым голосом сказал становой.
Мужики засуетились. Черные ножки дрогнули, поднялись и беспомощно опустились вниз. Из-под локтя, покрытого грубой, рыжей, как земля, дерюгой, выпала бледная зеленоватая ручка и свесилась к полу.
— Выноси на двор, в сарай…
Мужики двинулись, стали, опять двинулись и, перехватывая руками, понесли вон что-то, казалось, страшно тяжелое и хрупкое.
И когда черные ножки, странно вытягиваясь вперед, выдвинулись из дверей школы на крыльцо, тот же тяжелый подавленный вздох ужаса и недоумения пошел по улице, вдруг осветившейся сотнями широко открытых глаз.
— Разгоните народ, — быстро и с ужасом, задыхаясь, проговорил доктор над ухом станового.
Становой выпрямился. Лицо у него стало властное и холодное, и громким голосом он крикнул:
— Вы еще чего тут?.. Расходись, марш!..
Толпа молча зашевелилась, поежилась, колыхнулась и стала.
— Расходись, расходись! — вдруг нестройно и пугливо закричали урядник и десятские, махая на толпу руками.
Ниночку уже донесли до сарая и там опустили на подмерзлый твердый помост. Маленькая мертвая головка тихо качнулась и замерла.
Один из десятских, русый и бледный, пугливо перекрестился.
Становой мельком взглянул на него и машинально сказал:
— Ступай вон… Зови понятых.
Лицо мужика съежилось, как будто ушло куда-то внутрь, и тупой страх микроцефала выступил на его лице из-за светлой и прозрачной жалости.
V
После вскрытия доктор и следователь молча сидели в волостном правлении. На дворе уже стояла беззвездная ночь и черно смотрела в окно. В темной прихожей, казалось, кто-то стоял и слушал.
— Ах, Боже мой, Боже мой! — тихо вздрогнул доктор, скручивая папироску толстыми, как будто позабывшими, как это делается, пальцами.
Следователь быстро взглянул на него и заходил по комнате.
Обоим было невыносимо страшно и казалось невозможно смотреть друг другу в глаза. В отяжелевших головах, ставших вдруг огромными и болезненно-пустыми, как у сумасшедших, воспоминания проносились скачками и зигзагами. Они были бесформенные, но острые, как ножи.
— Ах, Боже мой, Боже мой! — тоскливо вздыхал доктор, умоляя о жалости, и ему хотелось развести руками, скорбно ударить себя в голову и плакать.
А следователь быстро ходил из угла в угол, все скорее и скорее, и похоже было на то, будто он старается от кого-то убежать. За ним неотступно скрипел пол, — кто-то невидимый, казалось, гонялся за ним. В круглой и гладко остриженной белой голове его, как мыши, стремительно бегали черненькие мысли и торопливо искали выхода. Вздохи доктора раздражали его. Ему казалось, что вздыхать нечего и некогда, а надо теперь одно: выкручиваться. Холодная мысль о маленькой погибшей женщине стояла в темном углу его мозга, неподвижная и ненужная.
— Ах, Боже мой! — вздыхал доктор.
Бешенство овладело следователем. Ему казалось, что эти тяжелые вздохи виснут на его мысли, и, юркие, изворотливые, они бессильно ползают и кружатся на одном месте. Он быстро повернулся и, выкатив маленькие прозрачные, как студень, глаза, бешено крикнул:
— Что вы ноете? Какого черта, в самом деле!..
Вдруг одна черненькая и юркая мысль выскочила и засверкала в его глазах обманчивым, неверным светом.
— Сам заварил кашу, а теперь и хнычет, как старая баба… — с страшным и зловещим выражением проговорил он, не глядя в глаза доктору.
Доктор понял и побагровел. Огромное круглое лицо его стало красно и блестяще, как раздутый шар. На всю комнату было слышно, как коротко и трудно задышал он.
— Что?.. Я?.. Все я? — отрывистыми толчками, медленно поднимаясь на коротких ногах, заговорил он.
— Конечно, вы! — бешено встряхнув головой и ляскнув зубами, рванулся ему навстречу следователь.
Лампочка пугливо зашаталась на столе, и зеленый колпак, предостерегая, жалобно задребезжал. Свет падал вниз, на расставленные ноги и судорожно сжатые кулаки, а лица были в тени, и только глаза тускло и страшно блестели.
— Я? — переспросил доктор и подавился с хрипом и визгом.
— Вы, вы, вы! — пронзительно и дико закричал следователь.
— А кто первый сказал? — прохрипел доктор.
— Я в шутку сказал, а вы первый вошли!
— А кто бил по голове, по голове?.. Я?..
— А кто сказал, что нам бояться нечего?
Они стояли друг против друга, с искаженными в страшные гримасы лицами и потерявшими иное, кроме страха и ненависти, выражение круглыми глазами, и выкрикивали нагие и уродливые, как фантомы, обвинения. В их потерявшихся душах и помутившихся разумах как будто кричал один невыносимо пронзительный голос, взывающий ради спасения:
— Не я, не я… он, он, он!..
Было похоже на то, как лезут друг другу на плечи, душат и колотят по головам попавшие внезапно в душный и узкий колодезь, полный страдания и страха.
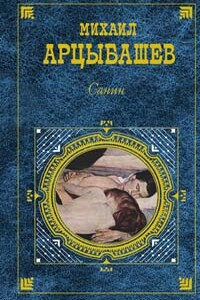
Михаил Арцыбашев (1878–1927) — один из самых популярных беллетристов начала XX века, чье творчество многие годы подвергалось жестокой критике и лишь сравнительно недавно получило заслуженное признание. Роман «Санин» — главная книга писателя — долгое время носил клеймо «порнографического романа», переполошил читающую Россию и стал известным во всем мире. Тонкая, деликатная сфера интимных чувств нашла в Арцыбашеве своего сильного художника. «У Арцыбашева и талант, и содержание», — писал Л. Н. Толстой.Помимо романа «Санин», в книгу вошли повести и рассказы: «Роман маленькой женщины», «Кровавое пятно», «Старая история» и другие.

Психологическая проза скандально известного русского писателя Михаила Арцыбашева, эмигрировавшего после 1917 года.
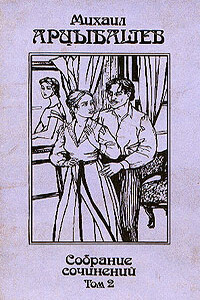
После десятилетий хулений и замалчиваний к нам только сейчас наконец-то пришла возможность прочитать книги «запрещенного», вычеркнутого из русской литературы Арцыбашева. Теперь нам и самим, конечно, интересно без навязываемой предвзятости разобраться и понять: каков же он был на самом деле, что нам близко в нем и что чуждо.
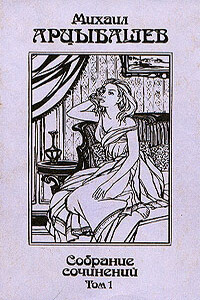
После десятилетий хулений и замалчиваний к нам только сейчас наконец-то пришла возможность прочитать книги «запрещенного», вычеркнутого из русской литературы Арцыбашева. Теперь нам и самим, конечно, интересно без навязываемой предвзятости разобраться и понять: каков же он был на самом деле, что нам близко в нем и что чуждо.

После десятилетий хулений и замалчиваний к нам только сейчас наконец-то пришла возможность прочитать книги «запрещенного», вычеркнутого из русской литературы Арцыбашева. Теперь нам и самим, конечно, интересно без навязываемой предвзятости разобраться и понять: каков же он был на самом деле, что нам близко в нем и что чуждо.

Настоящее Собрание сочинений и писем Салтыкова-Щедрина, в котором критически использованы опыт и материалы предыдущего издания, осуществляется с учетом новейших достижений советского щедриноведения. Собрание является наиболее полным из всех существующих и включает в себя все известные в настоящее время произведения писателя, как законченные, так и незавершенные.Книга «За рубежом» возникла в результате заграничной поездки Салтыкова летом-осенью 1880 г. Она и написана в форме путевых очерков или дневника путешествий.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В шестой том собрания сочинений вошли прозаические произведения 1916–1919., пьесы и статьи.Комментарии Ю. Чирвы и В. Чувакова.http://ruslit.traumlibrary.net.

Максим Горький описывает, с обычным своим искусством и жизненностью, уличную сутолоку больших городов – Берлина, Парижа, Нью-Йорка и др.

Это средняя часть трилогии «Творимая легенда», русского писателя Фёдора Сологуба.«Королева Ортруда», рассказывает о жизни королевы Балеарских островов. Здесь средневековая сказочность повествования прерывается грубыми голосами современной жизни.Томления королевы Ортруды достигают всемирно-чувствующего сердца Триродова…
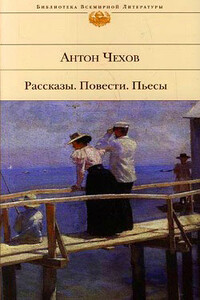
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.