Ускоряющийся лабиринт - [16]
Доктор Аллен перечислил несколько категорий миротворцев, в том числе тех, что прекращают войны и раздоры. Но есть и другие миротворцы, способные положить конец горьким спорам и внутренним раздорам. Маргарет поняла, что он имеет в виду себя, и с презрением подумала о его слабости. Она почти жалела его, ведь его тщеславие было поистине болезненным. И друзья — это тоже миротворцы, продолжал он, ибо своей любовью дарят нам мир и покой. Миротворцы — не только те, кого принято так называть, не только священнослужители, послы и врачи, но и все мы, благодаря нашему братству.
Джон знал наверняка, кто принесет мир ему. Его жены, Мария и Пэтти. Мир воцарится, когда он будет лежать под дубом, а они — ошую и одесную, а вокруг — густой сладкий запах травы, и теплые солнечные лучи, и клубящиеся летние облака над головой. Он отвернулся от Мэтью Аллена, который, раскачиваясь на носках, с заметным удовольствием изрекал очередную банальность, и стал глядеть в огонь. Мысли понеслись с угрожающей быстротой, он глядел и думал, что вот горят единственные в своем роде бревна, обрубки вполне определенных деревьев, горят вот в этом самом огне, в этом месте и в это время, и все это могло произойти и происходит лишь раз в истории Вселенной — здесь и сейчас. Когда-то на них садились птицы, вполне определенные птицы, по ним ползали разные твари, солнце освещало их то с одной, то с другой стороны, их обдували ветра, а над ними проплывали единственные в своем роде облака, а к утру они превратятся в золу. Как же мало нам отпущено времени. Он должен каждый божий день быть со своими женами, а не тратить время попусту здесь. Похожие то на ветви, то на листья, языки пламени сами по себе тоже были единственными в своем роде, как и деревья, — одновременно вечными и мимолетными.
Ханна не обращала на слова отца никакого внимания. Ее взор был устремлен мимо взлетающих фалд его пиджака, мимо рук, порхающих по обе стороны аналоя и опускающихся на лежащую перед ним стопку бумаги, — туда, где сидели Теннисоны. У Альфреда Теннисона был задумчивый, печальный вид — да и каким еще ему быть? — но смотреть на него все время она не могла. Справа от него сидел брат, лицо которого было похоже на посмертную маску, глаза прикрыты, но по щекам текли слезы. Вдруг она увидела, как он разомкнул воспаленные губы и вздохнул. Не открывая глаз, он осушил слезы носовым платком. А когда вскоре он вместе со всеми поднялся на ноги, Ханна поняла, что снова пришла пора петь.
Теннисон стоял и пел вместе с убогими, раскрывающимися навстречу Господу. Проповедь показалась ему вполне сносной, более внятной и более ясно изложенной, чем проповеди его покойного отца, более щедро и сочувственно обращенной к пастве. Когда больные начали сдавать свои сборники гимнов санитарам и двинулись к выходу, а с ними куда-то уковылял и Септимус, Теннисон подошел к доктору с похвалами. Ханна заметила, куда он направляется, и тотчас же встала рядом с отцом.
Теннисон взял Аллена за руку и пожал ее.
— По-моему, проповедь удалась.
— Очень рад, — ответил Аллен.
— Она была превосходна, — подала голос Ханна.
Аллен с некоторым удивлением взглянул на дочь, которая обычно не выказывала никакого интереса к проповедям, снисходительно улыбнулся и положил руку ей на плечо. От этого прикосновения Ханна застыла на месте и покраснела от обиды: она уже не ребенок, и к тому же это идет вразрез с ее планами. В то же время ей пришло в голову, что сейчас роль нежной и преданной дочери для нее наиболее выигрышна, и она вновь удивила Аллена, поощрительно погладив его по тыльной стороне ладони.
От этой семейной сценки Теннисона отвлекло появление еще одного персонажа. Когда тот приблизился, стало заметно, что на лице у него сияет улыбка, а голова слегка подрагивает. Он схватил доктора за руку сразу двумя руками и крепко пожал. «Спасибо, — произнес он, — и вновь спасибо». Когда он отошел, Аллен рассказал, кто это такой и как он страдает от Национального Долга, и объяснил, что молитва для него — единственное отдохновение. Теннисон проводил взглядом удаляющуюся спину больного, чья походка становилась все более напряженной, по мере того как он уходил все дальше и дальше от этого исключительно успешного доктора.
Зима
Стоя на самом краю земли, Маргарет смотрела, как замирают за грязным ледяным окошком рыбы. Твердый снег в черных ветвях деревьев порябел от недавнего дождя. Свернувшиеся в комок вороны цеплялись за ветви, раскачивавшиеся на ветру. Голоса больных доносились и сюда, но среди леса в зимнем облачении звучали приглушенно, словно аплодисменты зрителей в перчатках.
Ей по нраву был этот привкус отсутствия, пустой воздух, напоминающий об отсутствии истинном. Хотелось остаться тут, висеть на своей собственной веточке, пока холод не прожжет до костей. Пусть ее выбеленные кости останутся здесь, на снегу, а она умчится подобно свету. Выбеленные кости, словно бы выкрашенные белой краской. Гроб повапленный, пришло ей в голову. Не о ней ли здесь речь? Иначе почему она об этом подумала? Она привычно принялась искать во всплывшей невесть откуда цитате скрытый смысл. Гробом повапленным Он назвал фарисея, что был красив снаружи, а внутри полон мертвых костей и всякой мерзости. Но не таков ли любой человек? И не о той ли мерзости речь, что извергалась на нее из мужа, хлестала, марала ей лицо? Но к чему задавать столько вопросов? Как будто от мыслей есть хоть какой-то прок. Словами делу не поможешь. Что было, то было. Если и есть в чем-то прок, то лишь в том, чтобы не омрачать себя мыслями, погрузиться в ничто. Превратиться в ничто. Стать такой же пустой, как холод. И ждать.

Эта книга является 2-й частью романа "Нити судеб человеческих". В ней описываются события, охватывающие годы с конца сороковых до конца шестидесятых. За это время в стране произошли большие изменения, но надежды людей на достойное существование не осуществились в должной степени. Необычные повороты в судьбах героев романа, побеждающих силой дружбы и любви смерть и неволю, переплетаются с загадочными мистическими явлениями.

Во второй книге дилогии «Рельсы жизни моей» Виталий Hиколаевич Фёдоров продолжает рассказывать нам историю своей жизни, начиная с 1969 года. Когда-то он был босоногим мальчишкой, который рос в глухом удмуртском селе. А теперь, пройдя суровую школу возмужания, стал главой семьи, любящим супругом и отцом, несущим на своих плечах ответственность за близких людей.Железная дорога, ставшая неотъемлемой частью его жизни, преподнесёт ещё немало плохих и хороших сюрпризов, не раз заставит огорчаться, удивляться или веселиться.

Герой этой книги — Вильям Шекспир, увиденный глазами его жены, женщины простой, строптивой, но так и не укрощенной, щедро наделенной природным умом, здравым смыслом и чувством юмора. Перед нами как бы ее дневник, в котором прославленный поэт и драматург теряет величие, но обретает новые, совершенно неожиданные черты. Елизаветинская Англия, любимая эпоха Роберта Ная, известного поэта и автора исторических романов, предстает в этом оригинальном произведении с удивительной яркостью и живостью.

В книге впервые публикуется центральное произведение художника и поэта Павла Яковлевича Зальцмана (1912–1985) – незаконченный роман «Щенки», дающий поразительную по своей силе и убедительности панораму эпохи Гражданской войны и совмещающий в себе черты литературной фантасмагории, мистики, авангардного эксперимента и реалистической экспрессии. Рассказы 1940–50-х гг. и повесть «Memento» позволяют взглянуть на творчество Зальцмана под другим углом и понять, почему открытие этого автора «заставляет в известной мере перестраивать всю историю русской литературы XX века» (В.

«…Я желал бы поведать вам здесь о Жукове то, что известно мне о нем, а более всего он известен своею любовью…У нас как-то принято более рассуждать об идеологии декабристов, но любовь остается в стороне, словно довесок к буханке хлеба насущного. Может быть, именно по этой причине мы, идеологически очень крепко подкованные, небрежно отмахиваемся от большой любви – чистой, непорочной, лучезарной и возвышающей человека даже среди его немыслимых страданий…».

Книга посвящена одному из самых деятельных декабристов — Кондратию Рылееву. Недолгая жизнь этого пламенного патриота, революционера, поэта-гражданина вырисовывается на фоне России 20-х годов позапрошлого века. Рядом с Рылеевым в книге возникают образы Пестеля, Каховского, братьев Бестужевых и других деятелей первого в России тайного революционного общества.
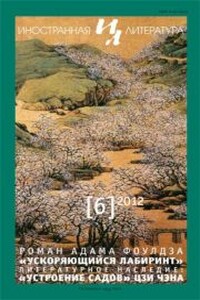
Томас Хюрлиман (р. 1950), швейцарский прозаик и драматург. В трех исторических миниатюрах изображены известные личности.В первой, классик швейцарской литературы Готфрид Келлер показан в момент, когда он безуспешно пытается ускользнуть от торжеств по поводу его семидесятилетия.Во втором рассказе представляется возможность увидеть великого Гёте глазами человека, швейцарца, которому довелось однажды тащить на себе его багаж.Третья история, про Деревянный театр, — самая фантастическая и крепче двух других сшивающая прошлое с настоящим.

Предлагаемые тексты — первая русскоязычная публикация произведений Джона Берджера, знаменитого британского писателя, арт-критика, художника, драматурга и сценариста, известного и своими радикальными взглядами (так, в 1972 году, получив Букеровскую премию за роман «G.», он отдал половину денежного приза ультралевой организации «Черные пантеры»).
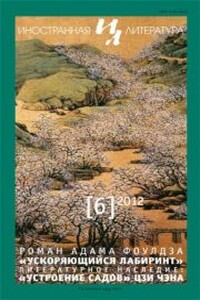
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
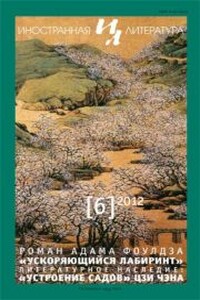
«Устроение садов» (по-китайски «Юанье», буквально «Выплавка садов») — первый в китайской традиции трактат по садово-парковому искусству. Это удивительный текст с очень несчастливой судьбой. Он написан на закате династии Мин (в середине XVII века) мастером искусственных горок и «садоустроителем» Цзи Чэном.