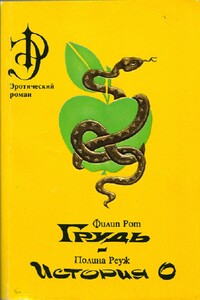Урок анатомии: роман; Пражская оргия: новелла - [14]
— Хороший вопрос, — сказал он.
— Ну ладно, вы идите своими делами занимайтесь. А я тут разберусь.
И она — будто заскочила на минутку посудачить — встала, отправилась со своей хозяйственной сумкой в ванную. Вышла оттуда в хлопковом красном берете и длинном красном фартуке поверх штанов.
— Хотите, я в обувном шкафу спреем побрызгаю?
— Делайте то, что обычно.
— Обычно я брызгаю. Обуви на пользу.
— Тогда брызгайте.
Надгробная речь Генри длилась почти час. Натан считал, когда Генри перекладывал страницу за страницей. Всего семнадцать — тысяч пять слов. Он бы пять тысяч слов писал неделю, а Генри управился за ночь — в гостиничном номере с тремя малолетними детьми и женой. Цукерман не мог писать, даже если в комнате была кошка. Это было еще одно различие между ними.
В поминальном зале собралось человек сто скорбящих, в основном вдовые еврейки за шестьдесят и за семьдесят — прожили всю жизнь в Нью-Йорке и Нью-Джерси, и их переправили на Юг. К тому времени, когда Генри закончил, все они жалели, что нет у них такого сына, и не только потому, что он высокий, статный, видный и с успешной практикой — такого любящего сына редко встретишь. Цукерман подумал: «Будь все сыновья такими, и я бы себе сына завел». И не то чтобы Генри что-то присочинил, портрет вовсе не был нелепо идеализирован, но все эти добродетели у нее имелись. Однако это были те добродетели, которые делают счастливой жизнь мальчика. Чехов, опираясь примерно на то, о чем говорил Генри, написал рассказ раза в три короче, «Душечку». Впрочем, Чехову не нужно было компенсировать урон, нанесенный «Карновским».
С кладбища они отправились в квартиру их родственницы Эсси — на том же этаже, напротив квартиры мамы — принимать и кормить скорбящих. Некоторые женщины попросили у Генри текст его надгробной речи. Он пообещал, что как только вернется к себе в клинику, попросит секретаршу сделать ксероксы и всем разошлет. «Он дантист, — услышал Цукерман слова одной из вдов, — а пишет лучше того писателя». От нескольких маминых друзей Цукерман услышал, как его мать учила вдовцов складывать белье после сушки. Энергичного вида мужчина с венчиком седых волос и загорелым лицом подошел пожать ему руку.
— Моя фамилия Мальц. Примите мои соболезнования.
— Благодарю вас.
— Вы давно из Нью-Йорка?
— Вчера утром прилетел.
— Как там погода? Очень холодно?
— Да нет, терпимо.
— Не стоило мне сюда ехать, — сказал Мальц. — Останусь, пока аренда не кончится. Еще два года. Если доживу, мне будет восемьдесят пять. А тогда вернусь домой. У меня четырнадцать внуков на севере Джерси. Кто-нибудь меня да приютит.
Пока они с Мальцем разговаривали, рядом стояла женщина в темных очках и слушала. Цукерман гадал, не слепая ли она, хотя была она без сопровождающих.
— Я Натан, — сказал он. — Добрый день.
— Да уж я знаю, кто вы. Ваша мама только о вас и рассказывала.
— Да?
— Я ей: «Сельма, когда он в следующий раз приедет, приведи его ко мне — у меня для него масса историй». У моего брата в Лейквуде, в Нью-Джерси, дом престарелых, он там такого навидался — на целую книгу хватит. Если кто ее напишет, миру это пойдет на пользу.
— И чего он там навидался? — спросил Цукерман.
— Да всякого! Одна старушка, она весь день сидит у входа, у самой двери. Он ее спрашивает, что она делает, а она: «Я сына жду». Когда сын приехал, мой брат ему говорит: «Ваша мать каждый день сидит у двери, ждет вас. Может, вы будете приезжать почаще?» Знаете, что он ответил? Да вы и сами понимаете, что он ответил. Он ответил: «А вы знаете, какие пробки по дороге из Бруклина в Джерси?»
Они сидели и сидели. Разговаривали с ним, с Генри, друг с другом, и хотя выпить никто не попросил, съели почти все, и Цукерман подумал: наверное, этим людям нелегко, когда кто-то в доме умирает — каждый думает, уж не он ли будет следующим. И кто-то действительно оказывается следующим.
Генри с детьми улетел в Нью-Джерси к своим пациентам, оставив Кэрол с Натаном разбираться в квартире и решать, что отдавать в еврейские благотворительные центры, Кэрол — чтобы без ссор. Она никогда ни с кем не ссорилась — «милее характера в мире не найти», по мнению родственников. Живая, по-девичьи хорошенькая женщина, она выглядела моложе своих тридцати четырех лет, коротко стриглась и носила шерстяные гольфы — кроме этого Цукерману почти нечего было о ней сказать, хотя она была замужем за его братом почти пятнадцать лет. В его присутствии она всегда делала вид, что ничего не знает, ничего не читала, не имеет мнения ни о чем; если находилась в одной с ним комнате, даже анекдот рассказать не осмеливалась, хотя Цукерман часто слышал от матери, какой «совершенно очаровательной» она бывает, когда они с Генри принимают родственников. Но сама Кэрол, чтобы не проявить ничего, что он мог бы покритиковать или высмеять, при нем вообще никак себя не проявляла. Наверняка он знал про Кэрол только одно: она не хотела попасть в книгу.
Они опорожнили два верхних ящичка маминого туалетного столика и разложили коробочки на обеденном столе. Открывали их одну за другой. Кэрол предложила Натану взять кольцо, помеченное как «Обручальное кольцо бабушки Шехнер». Он помнил, как его в детстве сразил рассказ о том, что она сняла кольцо с пальца своей матери — тут же, когда та умерла: его мама потрогала труп, а потом вернулась домой и приготовила им ужин.
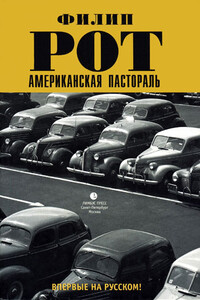
«Американская пастораль» — по-своему уникальный роман. Как нынешних российских депутатов закон призывает к ответу за предвыборные обещания, так Филип Рот требует ответа у Америки за посулы богатства, общественного порядка и личного благополучия, выданные ею своим гражданам в XX веке. Главный герой — Швед Лейвоу — женился на красавице «Мисс Нью-Джерси», унаследовал отцовскую фабрику и сделался владельцем старинного особняка в Олд-Римроке. Казалось бы, мечты сбылись, но однажды сусальное американское счастье разом обращается в прах…

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
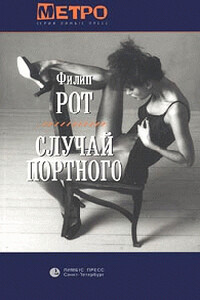
Блестящий новый перевод эротического романа всемирно известного американского писателя Филипа Рота, увлекательно и остроумно повествующего о сексуальных приключениях молодого человека – от маминой спальни до кушетки психоаналитика.
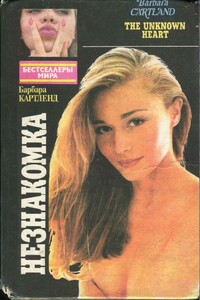
Женщина красива, когда она уверена в себе. Она желанна, когда этого хочет. Но сколько испытаний нужно было выдержать юной богатой американке, чтобы понять главный секрет опытной женщины. Перипетии сюжета таковы, что рекомендуем не читать роман за приготовлением обеда — все равно подгорит.С не меньшим интересом вы познакомитесь и со вторым произведением, вошедшим в книгу — романом американского писателя Ф. Рота.
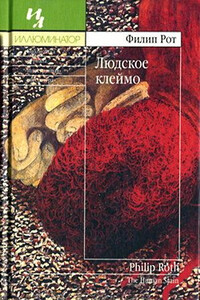
Филип Милтон Рот (Philip Milton Roth; род. 19 марта 1933) — американский писатель, автор более 25 романов, лауреат Пулитцеровской премии.„Людское клеймо“ — едва ли не лучшая книга Рота: на ее страницах отражен целый набор проблем, чрезвычайно актуальных в современном американском обществе, но не только в этом ценность романа: глубокий психологический анализ, которому автор подвергает своих героев, открывает читателю самые разные стороны человеческой натуры, самые разные виды человеческих отношений, самые разные нюансы поведения, присущие далеко не только жителям данной конкретной страны и потому интересные каждому.
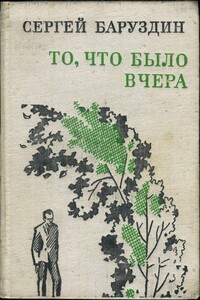
Новая книга Сергея Баруздина «То, что было вчера» составлена из произведений, написанных в последние годы. Тепло пишет автор о героях Великой Отечественной войны, о том, как бережно хранит память об их подвигах молодое поколение.
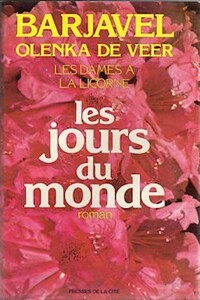
Продолжение романа «Девушки и единорог», две девушки из пяти — Гризельда и Элен — и их сыновья переживают переломные моменты истории человеческой цивилизации который предшествует Первой мировой войне. Героев романа захватывает вихрь событий, переносящий их из Парижа в Пекин, затем в пустыню Гоби, в Россию, в Бангкок, в небольшой курортный городок Трувиль… Дети двадцатого века, они остаются воинами и художниками, стремящимися реализовать свое предназначение несмотря ни на что…

Марсель Эме — французский писатель старшего поколения (род. в 1902 г.) — пользуется широкой известностью как автор романов, пьес, новелл. Советские читатели до сих пор знали Марселя Эме преимущественно как романиста и драматурга. В настоящей книге представлены лучшие образцы его новеллистического творчества.
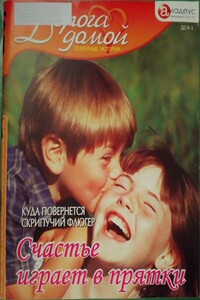
Для 14-летней Марины, растущей без матери, ее друзья — это часть семьи, часть жизни. Без них и праздник не в радость, а с ними — и любые неприятности не так уж неприятны, а больше похожи на приключения. Они неразлучны, и в школе, и после уроков. И вот у Марины появляется новый знакомый — или это первая любовь? Но компания его решительно отвергает: лучшая подруга ревнует, мальчишки обижаются — как же быть? И что скажет папа?
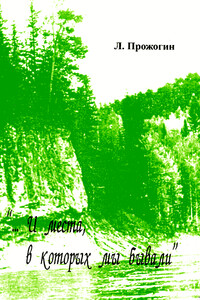
Книга воспоминаний геолога Л. Г. Прожогина рассказывает о полной романтики и приключений работе геологов-поисковиков в сибирской тайге.
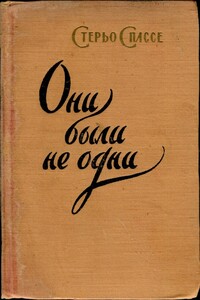
Без аннотации.В романе «Они были не одни» разоблачается антинародная политика помещиков в 30-е гг., показано пробуждение революционного сознания албанского крестьянства под влиянием коммунистической партии. В этом произведении заметно влияние Л. Н. Толстого, М. Горького.

В книгу, составленную Асаром Эппелем, вошли рассказы, посвященные жизни российских евреев. Среди авторов сборника Василий Аксенов, Сергей Довлатов, Людмила Петрушевская, Алексей Варламов, Сергей Юрский… Всех их — при большом разнообразии творческих методов — объединяет пристальное внимание к внутреннему миру человека, тонкое чувство стиля, талант рассказчика.

Роман «Эсав» ведущего израильского прозаика Меира Шалева — это семейная сага, охватывающая период от конца Первой мировой войны и почти до наших времен. В центре событий — драматическая судьба двух братьев-близнецов, чья история во многом напоминает библейскую историю Якова и Эсава (в русском переводе Библии — Иакова и Исава). Роман увлекает поразительным сплавом серьезности и насмешливой игры, фантастики и реальности. Широкое эпическое дыхание и магическая атмосфера роднят его с книгами Маркеса, а ироничный интеллектуализм и изощренная сюжетная игра вызывают в памяти набоковский «Дар».

Впервые на русском языке выходит самый знаменитый роман ведущего израильского прозаика Меира Шалева. Эта книга о том поколении евреев, которое пришло из России в Палестину и превратило ее пески и болота в цветущую страну, Эрец-Исраэль. В мастерски выстроенном повествовании трагедия переплетена с иронией, русская любовь с горьким еврейским юмором, поэтический миф с грубой правдой тяжелого труда. История обитателей маленькой долины, отвоеванной у природы, вмещает огромный мир страсти и тоски, надежд и страданий, верности и боли.«Русский роман» — третье произведение Шалева, вышедшее в издательстве «Текст», после «Библии сегодня» (2000) и «В доме своем в пустыне…» (2005).

Роман «Свежо предание» — из разряда тех книг, которым пророчили публикацию лишь «через двести-триста лет». На этом параллели с «Жизнью и судьбой» Василия Гроссмана не заканчиваются: с разницей в год — тот же «Новый мир», тот же Твардовский, тот же сейф… Эпопея Гроссмана была напечатана за границей через 19 лет, в России — через 27. Роман И. Грековой увидел свет через 33 года (на родине — через 35 лет), к счастью, при жизни автора. В нем Елена Вентцель, русская женщина с немецкой фамилией, коснулась невозможного, для своего времени непроизносимого: сталинского антисемитизма.