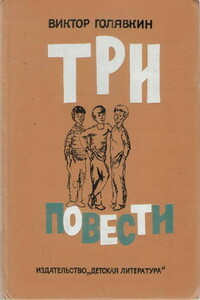Удивительные дети - [5]
Мы вышли на воздух.
В лагерь входили «войска». Бил барабан. А впереди несли знамя.
Кто-то крикнул:
— Глядите! Хе-хе! Болтун-то в нашем лагере объявился!
И я увидел длинноносого. Который там, в лесу, сказал, что язык мой как мельница треплется…
Все разбежались по лагерю, а этот мальчишка ко мне подбежал.
— Болтун, — говорит, — опять здесь!
Не долго думая, схватил я его за рубашку, и он меня за рубашку схватил. И мы вместе покатились по траве.
Санька кинулся нас разнимать, но мы крепко друг другу в рубашки вцепились.
Кое-как нас разняли.
И вот мы стоим друг перед другом в своих разорванных рубашках, а вокруг нас почти весь лагерь стоит.
Какая-то девушка говорит:
— Чей это ребёнок?
Все молчат.
Выясняется, что я тут совершенно ничей, и тогда она кричит:
— Как мог попасть сюда этот мальчик?
Все опять молчат, и тогда она уже тише говорит:
— Каким образом этот ребёнок здесь?
Выходит вперёд мой друг Санька, имеющий талант разговаривать с людьми, и говорит:
— Товарищ старшая пионервожатая! Это Валька. Это я привёл его в наш лагерь. Что ж здесь такого?
— Как что такого? — возмущается вожатая. — По-твоему, здесь нет ничего такого? Пришёл с улицы и ещё дерётся?!
Санька (здорово он всё-таки умеет разговаривать с людьми!) спокойно ей отвечает:
— По-моему, ничего такого в этом нет. Тем более его дразнили.
— А может быть, у него инфекция? — говорит во жатая.
— Нету у него инфекции, — говорит Санька.
— Откуда ты можешь знать, есть у него инфекция или нет?
— Я в и ж у, — говорит Санька.
— Ты ничего не видишь, — говорит вожатая, — у любого постороннего может быть инфекция!
Тогда я сказал:
— У меня нет никакой инфекции!
— Это ещё неизвестно!
— А ты, — сказала вожатая Саньке, — всего лишь только отдыхающий пионер, а ведёшь себя так, как будто ты начальник лагеря.
И тут Санька, так здорово умеющий разговаривать с людьми, вдруг заплакал.
Появился начальник лагеря. Он посмотрел на мой вид, взял меня за руку и, ни слова не говоря, только хмурясь, вы вел меня за ворота.
— Не пускайте сюда посторонних! — сказал он часовым.
На брёвнах
Матвей Савельич увидел, что у меня такое неважное на строение, предложил мне на брёвна сесть, И сам тоже сел на брёвна, закурил и говорит:
— Место у нас хорошее… природа… воздух… озеро под боком…
— У вас в лагерь никого не пускают, что ли? — спрашиваю.
— Кого пускают, а кого нет, — говорит.
— Никого не пускают, — сказал я.
Он, видимо, плохо слышал, часто переспрашивал. А тут он совсем не услышал.
— Лодка у меня была, — говорит, — так я её продал… всё думаю новую лодку сделать, да время никак не найду для этой лодки…
— Чего ж у вас лодки-то нет? У всех лодки есть, а у вас нет…
Я думал, у него лодка есть, думал, он меня на лодке по катает, рыбу, думал, половим, а у него нет…
— Так была же лодка, однажды её ребятишки у меня украли, так я её по всему озеру искал…
— И нашли?
— Нашёл, да ну её к лешему…
— Значит, вы рыбу теперь не ловите?
— Да ну её к лешему…
— А раньше ловили?
— Раньше ловил.
— А теперь почему не ловите?
— А на кой леший рыба нужна, кто её чистить-то будет, коли хозяйки нет?
— Почему нет?
— Не женат.
— Почему?
— А войны?
— Чего войны?
— Чудак! Всё ж войны: первая немецкая, столыпинская, так? Революционная — два? А после финская, а после Отечественная…
— На войне убили?
— Кого?
— Жену.
— Фу-ты! Как же её убить-то могли, коли её сроду не было. Поскольку войны были.
— А перерывы-то были?
— Перерывы-то? Ну, были. А можно сказать, и не было.
Не перерывы это, скажу я тебе, чтобы человек спокойно, обстоятельно жениться мог. Это, может, по книжкам там вашим были перерывы. А на самом-то деле не было.
— А как же другие женились?
— Кто другие?
— Отец мой, например, соседи…
— Соседи-то? А бог их знает…
— Да и не только они, — сказал я.
— Да много больно ты знаешь! — сказал он.
— Как же мне не знать! — сказал я.
— Умные все больно стали…
Он замолчал, всё курил.
Наверх мне не хотелось подниматься. Есть тоже не хоте лось. Я сидел. — начал я себе помещение строить. Лес-то надо рубить? А рядом-то рубить не разрешалось? Сам рубил. Сам возил. А пни ломом корчевал… А потом, значит, ягоды: крыжовник, сморода, а теперь, значит, яблоки собираю… смороду собираю… крыжовник собираю…
— А вас в лагерь не пускают? — спросил я. — … если участок в культуру привести, в божеский вид привести, можно тебе всё что угодно посадить, ведь так?
— Отчего же вы в то время не женились?
— Когда?
— Войны-то ведь не было.
— А участок-то надо было в божеский вид приводить?
А был лес. Ничего и не было. А лес-то, он шишки одни даёт.
Вот теперь сколько я крыжовника снимаю? А? Много снимаю!
А смороды сколько снимаю? Много! И яблоки, сам понимаешь, с каждого дерева снимаю… Мамаша-то твоя небось собирается у меня яблочек купить?
— А чего же вы сейчас не женитесь?
Он не слышал меня. — …некоторые сами не садят, придёт в сад колхозный, сучья обломает, аж до ульев доберётся, это ж куда годится!
Это кража, это хулиганство… это баловство! Почему каждому сад не посадить? Можно. А сучья ломать? Нет. Хулиганство! Дяденька посадил, а он знай — ломай, бей! В культуру ведь надо приводить хозяйство своё! А он — нет, не надо.
Нет, надо! Всё надо! — Он хлопнул кулаком по брёвнам.

Дорогие ребята! Наверное, многие из вас кое-что читали из этой книги раньше.Здесь повесть о двух весёлых приятелях — «Наши с Вовкой разговоры».Повесть о мальчике, который попал в необыкновенный город на море.И весёлые рассказы.Есть рассказы о Нике, у которого часто всё не так получается. О нём вы узнаете, когда прочтёте книгу. И очень даже может быть, кто-нибудь из ваших друзей чем-то похож на него.Здесь есть рассказы о Пете и Вове.В этой книжке ещё много рассказов о других ребятах, о их забавных историях.И ещё вы увидите здесь рисунки, которые я нарисовал к этим повестям и рассказам.Автор.
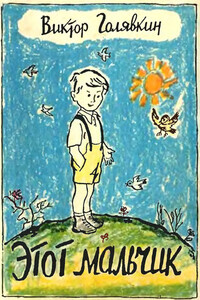
Приключенческая повесть о шестилетнем мальчике, восхитившем первоклассников своей начитанностью и деловитостью.

Впечатления о военном детстве писателя прочитываются в очень серьёзной, печальной повести «Мой добрый папа», написанной от лица маленького мальчика. Автор протестует против войны, от которой страдают люди, особенно дети. Это одна из лучших повестей о войне в детской литературе.«Была победа. Салют. Радость. Цветы. Солнце. Синее море… Возвращались домой солдаты. Но мой папа, мой добрый папа, он никогда не вернётся».Всего несколько простых слов понадобилось автору, чтобы выразить «радость победы и горечь поражений», но от их сочетания перехватывает горло.Несколько слов, от которых на глаза наворачиваются горькие слёзы.

В книгу «Школьные-прикольные истории» вошли весёлые рассказы любимых детских писателей В. Драгунского, В. Голявкина, Л. Каминского и многих других, посвящённые никогда не унывающим мальчишкам и девчонкам.Для младшего школьного возраста.

Весёлые и поучительные рассказы и повести известного детскогописателя для детей младшего школьного возраста. Автор тепло, с добрым юмором рассказывает о жизни современных детей,об их проблемах, увлечениях, интересах.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
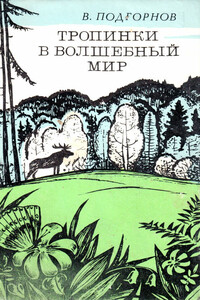
«Счастье — это быть с природой, видеть ее, говорить с ней», — писал Лев Толстой. Именно так понимал счастье талантливый писатель Василий Подгорнов.Где бы ни был он: на охоте или рыбалке, на пасеке или в саду, — чем бы ни занимался: агроном, сотрудник газеты, корреспондент радио и телевидения, — он не уставал изучать и любить родную русскую природу.Литературная биография Подгорнова коротка. Первые рассказы он написал в 1952 году. Первая книга его нашла своего читателя в 1964 году. Но автор не увидел ее. Он умер рано, в расцвете творческих сил.

Альберт Лиханов собрал вместе свои книги для младших и для старших, собрал вместе своих маленьких героев и героев-подростков. И пускай «День твоего рождения» живет вольно, не ведая непроницаемых переборок между классами. Пускай живет так, как ребята в одном дворе и на одной улице, все вместе.Самый младший в этой книжке - Антон из романа для детей младшего возраста «Мой генерал».Самый старший - Федор из повести «Солнечное затмение».Повесть «Музыка» для ребят младшего возраста рассказывает о далеких для сегодняшнего школьника временах, о послевоенном детстве.«Лабиринт»- мальчишечий роман о мужестве, в нем все происходит сегодня, в наше время.Рисунки Ю.
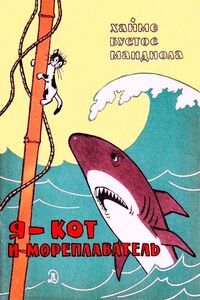
Пусть вас не удивит, что о серьёзном и опасном путешествии на плоту «Тайти Нуи» через Тихий океан вам рассказывает в этой книжке очень независимый весьма наблюдательный и не лишённый юмора кот по имени Чилито. Все полезные сведения, какие он сообщит вам, точно проверены и руководителем научной экспедиции Эриком де Бишопом, и Хайме Бустосом Мандиолой. Обо всём остальном вы сможете судить сами, прочитав эту весёлую и серьёзную повесть.
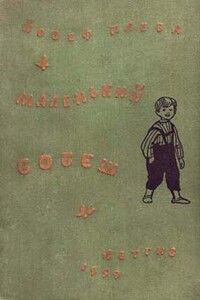
Книга известного чехословацкого писателя Йозефа Плевы «Маленький Бобеш» стала в Чехословакии одной из любимейших детских книг.В чем же притягательная сила этой книжки? Почему ее переводили и переводят во многих странах?С большой теплотой, с немалой долей юмора рассказывает Йозеф Плева о живом, любознательном мальчике Бобеше из простой трудовой семьи.Прочитайте эту книжку — она вас познакомит с жизнью чешской детворы в начале нашего века.