Ударная армия - [50]
— Нет, нельзя, — сказал Волынский. — Ты не знаешь Сергея, а я знаю.
— Он хороший.
— Ты посиди, Галя. Я вернусь через час. Посиди.
— Я с тобой.
— А ты знаешь… куда я? — У Волынского дрогнули губы.
— Я хочу попрощаться с нею.
— Не плачь.
— Я с тобой.
Оперативный дежурный майор Энгельгард уже третий раз вышел из блиндажа, где по приказанию гвардии полковника Волынского собрались командиры полков и начальники служб штаба дивизии, но «хозяин» (как по привычке говорил майор о комдиве) все еще не приезжал.
Краснощекое, пухлогубое, совсем еще мальчишеское лицо гвардии майора было сейчас в меру озабоченным (вчера гвардии майору впервые доверили высокие обязанности оперативного дежурного по штабу дивизии), в меру строгим (майорские погоны только вторую неделю носил Энгельгард), но, пожалуй, явственнее всего виделось на его лице чувство уязвленного самолюбия…
Этот левофланговый недомерочек, эта коротышка, командир полка гвардии подполковник Афанасьев, мнивший себя остряком, этот трепач (с обидой думал гвардии майор, стоя возле блиндажа и покусывая папиросу) сразу заметил, что еще вчера щегольски, по-кавалерийски длинная новенькая шинель Энгельгарда утром вдруг стала короче, и, черт побери, много короче…
Энгельгард в который раз вспомнил ухмылку на скуластом, словно обожженном за зиму ветрами, лице гвардии подполковника Афанасьева, швырнул папиросу на дымившуюся под утренним солнцем, грязную, истоптанную сапогами землю и неторопливо стал спускаться по деревянным ступенькам к двери блиндажа.
Тянулась из блиндажа струя папиросного дыма…
— Ну как, товарищ оперативный? — сказал гвардии подполковник Афанасьев (сидел возле оконца, закинув ногу на ногу, и курил немецкую сигарету), и все офицеры почему-то стали смотреть на Энгельгарда.
— Папаня не едет, а?
— Соскучились? — сказал Энгельгард и пожалел, что не промолчал: понял — коротышка опять готов потрепаться.
— Нехорошо, Павлик, — сказал Афанасьев, покачивая сверкающим носком сапога. — Я тебя по-человечески спросил, а ты сразу свой надменный питерский характер… Нехорошо…
— Не будем о характерах, товарищ подполковник, — сказал Энгельгард, чувствуя, что щекам становится жарко.
— Э, Павел Дмитрич, нехорошо обижаться. Мы тут все свои парни, ладожские кочколазы, а ты… Играет в тебе баронская кровь, а?.. Что-то я читал о твоем, наверное, дедушке… Барон Энгельгард… Точно. За дочкой Николая Первого ухлестывал барон, за Марией Николаевной, точно, точно. В чьих это я воспоминаниях читал? Вот запамятовал…
— Мой дед, к вашему сведению, был паровозным машинистом, — сказал Энгельгард сухо. — И вообще, я попросил бы…
— Все. Готов, — сказал Афанасьев, и офицеры засмеялись. — Готов, завелся наш Павлик. С пол-оборота.
— Товарищ гвардии…
— Чудак, я же просто хотел, чтобы ты поделился опытом, как это ловко так шинель отчикал на полметра, ровней ровного. Тут ведь тоже своя технология нужна. Поделись, Дмитрич, а?
Энгельгард промолчал.
Лысый, бритый до синевы, пожилой командующий артиллерией дивизии гвардии полковник Вечтомов сказал негромко:
— Сейчас молодым офицерам не служба, а удовольствие… Вот меня, бравого прапорщика, в четырнадцатом году господа офицеры лейб-гвардии Преображенского полка цукали, так уж цукали. Был такой гусь, штабс-капитан князь Енгалычев… Немецким снарядом в рай его отправило, так наш брат, прапорщики, на радостях недельный запас водки у своих фельдфебелей вылакали.
Вечтомов неторопливо закурил толстую папиросу.
— История… А кажется, вчера было дело… Идем мы как-то под вечер из корчмы, штабс-капитан Енгалычев свои именины отмечал, старшие офицеры от чести разделить его застолье уклонились, ну-с, а прапорам — не отвертишься… Тридцатого августа было. День памяти перенесения мощей великого князя Александра Невского… Нашего-то князька Александром звали. Ну, идем в батальон, под хорошим хмельком, разумеется… А у заборчика стоит вольнопер, ну, вольноопределяющийся. Доброволец. Енгалычев увидел, остановился. Говорит: «Юноша, извольте приблизиться». Ну-с, вольнопер — руку под козырек, каблуками щелкнул. «Ваше благородие, вольноопределяющийся Пятого Каргопольского драгунского полка Рокоссовский честь имеет явиться!»
— Рокоссовский?! — даже привстал Афанасьев.
— Константин Константинович самолично стоял перед нашим именинником. Смотрим мы на него — красавец парень, выправочка — хоть на пост у кабинета царя. Ну, Енгалычев предложил ему в наш батальон перевод устроить, имел слабость князек, чтобы в первом взводе на строевом смотру вот такие орлы стояли, как этот вольнопер в драгунском мундире…
— Прямо не верится, — сказал командир артиллерийского полка гвардии подполковник Якушев. — А мне все думалось, что нашему маршалу лет сорок от силы… Ох, хорош человек…
— Чем же кончилось, товарищ полковник? — сказал Энгельгард.
— Рокоссовский видит же, что князек-то — в дугу, ну, поблагодарил за честь, но сказал, что не хотел бы расставаться со своим взводом… Енгалычев его под руку, ведет к себе, на ординарцев цыкнул — те стол накрывают. Выпили еще, князек наш силен был по водочной части… Потом приказал подать коня, укатил к какой-то польке отсыпаться… А я еще Рокоссовского провожал до его эскадрона. Умница. Говорил тихо, коротко, точно… Тогда ведь манера была в обычае — по пустякам сотню слов молвить…
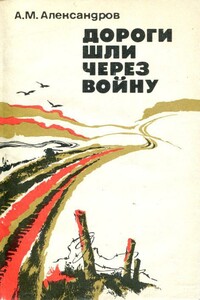
Три фронтовых друга — русский Юрий Дронов, армянин Виктор Мурадян, таджик Мирзо Бобаджанов — прошли жестокие испытания на непомерно длинной и трудной дороге войны. Об их судьбе и испытанной в боях дружбе, о героических подвигах и послевоенных встречах рассказывается в повести «Дороги шли через войну». Тему подвига на войне, интернациональной дружбы и боевого братства автор продолжает и в очерке «Тихмяновская высота». Для массового читателя.
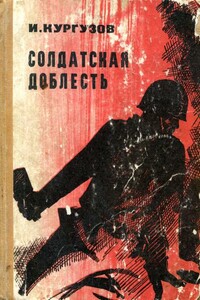
Эта высокая награда Родины так и называется — орден Славы... Орден Славы — знак величайшей солдатской доблести, свидетельство беспримерного мужества, стойкости, героизма отважных защитников любимой Отчизны. Его можно заслужить только на полях сражений, только в битвах с врагом, посягнувшим на священные рубежи Родины. И Родина-мать, весь советский народ горячо благодарят, достойно чтут всех тех, чью грудь украшает этот знак солдатской доблести. А ведь многие трижды удостоены этой высокой награды! И вот о них — полных кавалерах ордена Славы, их беспримерных ратных подвигах написана эта книга... А они — это 32 наших земляка. Все они — из Узбекистана!
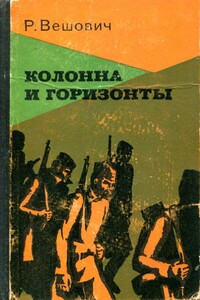
В повести югославского писателя рассказывается о боевых действиях 1-й пролетарской бригады Народно-освободительной армии Югославии против гитлеровских оккупантов в годы второй мировой войны. Яркие страницы книги посвящены боевому содружеству советских и югославских воинов, показана вдохновляющая роль успехов Советской Армии в развертывании освободительной борьбы югославского народа.
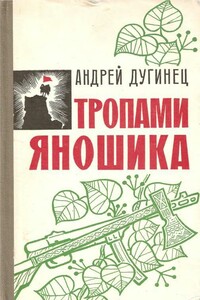
В этой документальной повести рассказывается о боевом содружестве партизан разных национальностей в период Словацкого антифашистского восстания 1944 года. В основу ее положены действия партизанской бригады, которую возглавлял Герой Советского Союза А. С. Егоров. Автор книги, писатель А. М. Дугинец, — участник описываемых событий.
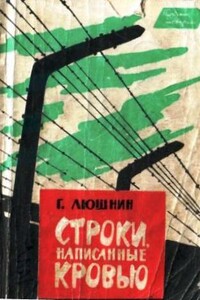
Весь мир потрясен решением боннского правительства прекратить за давностью лет преследование фашистских головорезов.Но пролитая кровь требует отмщения, ее не смоют никакие законы, «Зверства не забываются — палачей к ответу!»Суровый рассказ о войне вы услышите из уст паренька-солдата. И пусть порой наивным покажется повествование, помните одно — таким видел звериный оскал фашизма русский парень, прошедший через голод и мучения пяти немецких концлагерей и нашедший свое место и свое оружие в подпольном бою — разящее слово поэта.
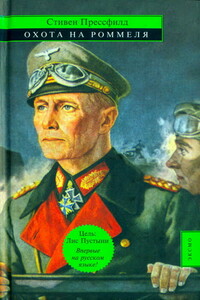
Ричмонд Чэпмен — обычный солдат Второй мировой, и в то же время судьба его уникальна. Литератор и романтик, он добровольцем идет в армию и оказывается в Северной Африке в числе английских коммандос, задачей которых являются тайные операции в тылу врага. Рейды через пески и выжженные зноем горы без связи, иногда без воды, почти без боеприпасов и продовольствия… там выжить — уже подвиг. Однако Чэп и его боевые товарищи не только выживают, но и уничтожают склады и аэродромы немцев, нанося им ощутимые потери.