Учительница - [36]
– Я не осуждаю тех, кто думал не так, как я, – вторгся в ее мысли Ян, будто воскрешая из тлена старый спор. И сразу замолчал.
Хана встала из-за стола и начала собирать посуду.
– Первые несколько лет я ни о чем не думал, – продолжил он. – Полностью погрузился в настоящее, в жизнь в кибуце, в работу. Позже, когда оставил кибуц, все изменилось.
– До начала войны? – спросила она.
– Да.
– Нужно уложить малыша спать. Уже поздно, – сказала Хана.
Она помогла Йоэлю собрать с пола рисунки и отвела в комнату.
– Найду квартиру, как только встану на ноги, – пообещала Эльза, когда они с Яном остались одни.
– Нет никакой спешки, Элинька. Не торопись.
– Странно, – вымолвила она наконец.
– Что странно?
– Сидеть вместе после стольких лет.
– Я всегда мечтал об этом, сестренка, – повторил Ян, и она отчетливо уловила, как он всматривается в ее лицо, пытаясь разглядеть в серьезной, печальной женщине, сидевшей напротив, девчушку, которую некогда знал; она спрашивала себя, действительно ли он мечтал об этом или уже жалеет, что поторопился пригласить ее к себе домой. – Все будет хорошо, – сказал он. – Вот увидишь. Люди, приехавшие после войны, строят здесь новую жизнь.
Перевернуть страницу, начать новую главу, выйти на новый старт – все эти фразы были вырваны из романа, который написал кто-то другой. Она изучала Яна взглядом, которым обычно одаряла людей, обращавшихся к ней с патетическими речами, желая тронуть ее сердце; он чувствовал, как она цепенеет, не понимая значения его слов, и что нет смысла ее подбадривать, ей это не помогает – даже недели спустя, когда она благополучно обосновалась в доме с двумя родителями и ребенком, вновь соединившись с сердцем здорового, справедливого, гуманного человечества. «У нее для Йоэля не хватает терпения», – с горечью сообщила ему Хана, отметив, что Эльза играет с малышом неохотно, из чувства долга, а не от чистого сердца; ей было жаль сына, продолжавшего борьбу, которую его родители давно сочли проигранной. Ее смущал кошачий, горящий взгляд Эльзы, которая, казалось, смотрела не на них, а сквозь них; пугали стоны, срывавшиеся с ее губ ночами и сливавшиеся с плачем Йоэля. Эльза не ждала участия, ей хотелось лишь одиночества и покоя. Дверь комнаты оставалась закрытой, и Ян строго-настрого запретил к ней входить. «Она не должна знать, что мы слышим», – заявил он. Хана подумала, что, возможно, Эльзу надо показать психиатру.
– Она тебе не враг, – возразил Ян.
– Кто сказал, что она мне враг? С чего ты взял?
– Иногда мне кажется, что ты воспринимаешь ее как врага.
– Я и правда считаю, что ей бы полегчало, если бы она поговорила со специалистом, – настаивала она.
– Откуда нам знать, принесут ли эти разговоры облегчение?
Он знал, что Эльза откажется; не было смысла даже предлагать. Спустя годы, решив вместе с семьей сняться с места и переехать в Австралию, он сказал ей: «Ты даже не представляешь, насколько мы на самом деле похожи. Мы с тобой как фотография и ее негатив, твоя привязанность к месту и моя легкость на подъем – результат одной и той же неприкаянности, неужели ты не видишь?» Она не сказала ни слова, но впервые почувствовала, что понимает, о чем он говорит.
Она поступила в семинар Левински и начала учиться, чтобы подтвердить образование и получить диплом учителя. Одновременно старалась улучшить свой иврит, пока не заговорила достаточно свободно, постепенно избавившись от акцента. Возвращаться в школу было нелегко. Некоторое время она думала сменить карьеру и заняться биологией, но опасалась, что для таких перемен слишком поздно; кроме того, она знала, что преподавание языков – ее конек. Подавляющее большинство студенток семинара Левински были моложе нее, родились в Палестине и говорили на иврите как на родном; они ничего не знали ни о Европе, ни о ее культуре, ни о разыгравшейся там кровавой бойне. Большинство из них готовились к свадьбе или уже были замужем, имели одного или двух детей и выбрали преподавание, потому что это считалось «удобной профессией для женщин». Эльза поняла, что преподавание здесь – самая востребованная профессия, однако ее присутствие действует им на нервы. Она как могла пыталась избавить их от неловкости – к тому времени она уже поняла, что любые напоминания о том, что такое Холокост, приводят окружающих в замешательство; она не хотела ни их сочувствия, ни их неловкого молчания. Во второй половине дня давала частные уроки английского и французского, а три вечера в неделю работала корректором в венгерской газете «Уй-Келет»[19]. Начала копить деньги и в конце концов сняла квартиру на улице Гордона, неподалеку от дома Яна и Ханы.
Это был ее договор с собой: отлаженная, предсказуемая рутина, ни шагу вправо, ни шагу влево; пусть это будет жизнь без движения – главное, чтобы все оставалось стабильным и неизменным, без неожиданных поворотов. Никаких кибуцев (старые друзья Яна пытались уговорить ее переехать в кибуц, где все было бы проще и спокойнее; но она не хотела, ей нужны были закрытая дверь и лестница, откуда она могла кивнуть, а затем повернуться спиной и уйти не извиняясь; она привыкла к функциональной и сдержанной архитектуре Тель-Авива – белого города, который ее не пугал, не таил в себе ни опасностей, ни загадок). А заодно – никакой редакции «Уй-Келет», которая ее угнетала; никаких радиопередач «Голоса Израиля» на венгерском. Но что тогда? Пять дней в неделю она проводила в обществе молодых людей – ни в коем случае не детей, а именно молодых людей на пороге жизни, которых надо было как-то убедить в том, что она все еще может дать им что-то ценное. Что-то, не связанное с ее прошлым. Так сформировалась идея преподавать английский. Английский язык обозначил границы ее честолюбия, безопасный путь, который позволит достойно зарабатывать, ни от кого не зависеть, обеспечить себя всем необходимым. Жизнь представляла собой сборник упражнений, которые она оттачивала до совершенства; жизнь была сферой деятельности и ответственности, и в этом замкнутом пространстве она была учительницей – госпожой учительницей; она носила этот титул, предназначенный для тех, кто говорит то, что делает, и делает то, что говорит. Не найдя своего места в послевоенном мире, она очертила для себя очень узкую сферу, в которой задавала правила, и другие играли по этим правилам. Она не хотела, чтобы ее трогали. Хотела пройти сквозь толпы людей насквозь, проложить себе тропку муравья-труженика, по которой будет идти с поднятой головой, и чтобы при этом никто до нее не дотрагивался, не обнимал, не сочувствовал. Ей этого было не нужно. Слова «Венгрия», «Коложвар», «Трансильвания» больше не слетали с ее уст.

Проснувшись рано утром Том Андерс осознал, что его жизнь – это всего-лишь иллюзия. Вокруг пустые, незнакомые лица, а грань между сном и реальностью окончательно размыта. Он пытается вспомнить самого себя, старается найти дорогу домой, но все сильнее проваливается в пучину безысходности и абсурда.
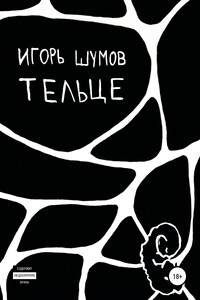
Творится мир, что-то двигается. «Тельце» – это мистический бытовой гиперреализм, возможность взглянуть на свою жизнь через извращенный болью и любопытством взгляд. Но разве не прекрасно было бы иногда увидеть молодых, сильных, да пусть даже и больных людей, которые сами берут судьбу в свои руки – и пусть дальше выйдет так, как они сделают. Содержит нецензурную брань.

Первая часть из серии "Упадальщики". Большое сюрреалистическое приключение главной героини подано в гротескной форме, однако не лишено подлинного драматизма. История начинается с трагического периода, когда Ромуальде пришлось распрощаться с собственными иллюзиями. В это же время она потеряла единственного дорогого ей человека. «За каждым чудом может скрываться чья-то любовь», – говорил её отец. Познавшей чудо Ромуальде предстояло найти любовь. Содержит нецензурную брань.

Книга – крик. Книга – пощёчина. Книга – камень, разбивающий розовые очки, ударяющий по больному месту: «Открой глаза и признай себя маленькой деталью механического города. Взгляни на тех, кто проживает во дне офисного сурка. Прочувствуй страх и сомнения, сковывающие крепкими цепями. Попробуй дать честный ответ самому себе: какую роль ты играешь в этом непробиваемом мире?» Содержит нецензурную брань.

К Пашке Стрельнову повадился за добычей волк, по всему видать — щенок его дворовой собаки-полуволчицы. Пришлось выходить на охоту за ним…

Автобиографическую эпопею мастера нон-фикшн Александра Гениса (“Обратный адрес”, “Камасутра книжника”, “Картинки с выставки”, “Гость”) продолжает том кулинарной прозы. Один из основателей этого жанра пишет о еде с той же страстью, юмором и любовью, что о странах, книгах и людях. “Конечно, русское застолье предпочитает то, что льется, но не ограничивается им. Невиданный репертуар закусок и неслыханный запас супов делает кухню России не беднее ее словесности. Беда в том, что обе плохо переводятся. Чаще всего у иностранцев получается «Княгиня Гришка» – так Ильф и Петров прозвали голливудские фильмы из русской истории” (Александр Генис).