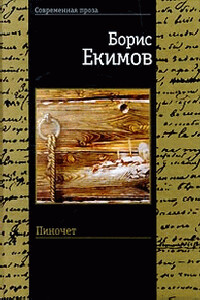Приезжает Штепо. Ему все доложили. Я как раз лемеха навариваю. Подъезжает белая «Волга». Значит, начальство. А мне какое дело, варю и варю. Вижу: подходит Штепо, здоровый такой, ну, ты его знаешь. Я закончил, снял маску сварочную. Он говорит: «Давайте знакомиться. Я — Штепо, директор». Руку пожал. Крепка така рука. Достает конверт. Это, говорит, премия. Ну, говорю, благодарствую. Он опять не уходит. Говорит: «Переходите ко мне в совхоз, на работу. Про наше хозяйство, наверное, знаете». Я плечами пожал, говорю: конечно, передовики. Но я слыхал, что вы берете людей до тридцати лет, а мне пятьдесят. Ничего, говорит, переходите. Сразу даю квартиру в двух… Этих самых…
Тюрин запамятовал, я подсказал:
— В двух уровнях.
— Вот-вот… Два этажа.
Про «уровни» — это уже тюринские фантазии. У Штепо в его совхозе и сейчас стоит так называемый «поселок специалистов» — просторные дома со всеми, как говорится, удобствами. Но этажей ли, «уровней» там нет.
Но все это — мелочь, потому что главное — правда.
— Я трохи подумал, говорю Штепе: два месяца всего здесь работаю. Приехал, дали хатку, работу жинке. Как-то нехорошо: взять и кинуть. Вроде не по-людски. Штепо мне отвечает: «Молодец. Но запомни: надумаешь, приезжай. Возьму, дам квартиру в двух…»
— Уровнях, — снова помогаю я.
— Да, да, они самые. В любой, говорит, момент.
Милая сказка былых времен, сердцу дорогая, кончилась, и Тюрин будто гаснет. Вздыхает, морщится, на глазах стареет. Притомился. Долгий день позади, долгий вечер.
Поздний час. За холмами догорела заря, оставляя нежную прозелень. Сумерки густеют.
Тюрину вставать со скамейки не хочется. Он устал. Не молоденький, а от зари до зари на ногах. Лень подниматься; лег бы тут и уснул. Но Тюрин уйдет домой, он не из тех, кто на чужих дворах валится. Покряхтывает, набираясь сил.
Из темноты, со стороны скотьего база, гавкнул пес; забелелось призрачно, и объявилась малая девочка в светлом платье.
— Деда! — подбегая к Тюрину, закричала она. — Баба драников напекла! Вкусные!
— Что за драники? — от кухни, из темноты спросил мой приятель. — Ваши, что ли? Хохлячьи? А? Маринка?!
— Наши, Сашко, наши! — живо отозвался за внучку Тюрин. — За уши не оттянешь.
— Деда, пошли! — торопила внучка. — А то они все поедят!
— Так положено… — подсмеивался мой приятель. — В большой семье рот не разевай.
Они уходят через скотий баз, Тюрин и внучка; хозяин провожает их, чтобы запереть скотьи воротца. Они идут, обговаривая дела завтрашние и те, что впереди: надо привезти соломы, надо притянуть — тоже тюринским трактором несколько хороших лесин из прибрежного займища, на дрова, надо… Много дел.
Хозяин запирает баз, гости уходят. Белое платье девочки недолго светлеет во тьме и размывается. Лишь детский голос звенит и звенит, разбивая вязкую тишину засыпающего хутора и округи: просторной долины, пологих холмов и холмов, глубоких балок, заросших шиповником да тернами. Время глухой поры. Сторожкий ночной зверь голоса во тьме не подаст. Лишь гукнет порой нелюдимый сыч. Да малая степная речушка, обсохшая за лето, ночь напролет будет журчать и журчать на каменистых перекатах.
Потом запоют петухи. На белой заре выйдет из дома Тюрин. Трактор заведет и поедет, погромыхивая тележкой, через бугор, в поле. Нынче — уборка. Он в хуторе один колхозник и будет, по его словам, еще двадцать лет работать.