Тюремные записки - [79]
Защитник сперва задал короткий вопрос:
— Где и когда монтеры Иванов и Сидоров изучали древнееврейский язык — иврит?
— Мы его не изучали…
— Но мой подзащитный Иосиф Бегун — преподаватель иврита и в своих разговорах с гражданами Израиля использовал именно этот — государственный в Израиле язык.
Я провел мало что понимая недели две, периодически безуспешно пытаясь выяснить, почему меня держат одного.
Пятого февраля меня повели к начальнику тюрьмы Ахмадееву, который, не вставая из-за стола, объявил:
— Постановлением Верховного Совета, вы, Григорьянц, амнистированы.
— Но я не просил об амнистии (амнистия предусматривала признание своей вины).
— Ничего не знаю. С сегодняшнего дня вы свободны.
После чего меня отвели назад в тюремную камеру.
Тем не менее, я стал собирать свои нехитрые пожитки и два больших мешка с книгами. Выводя меня утром, Чашин сказал:
— Оставили бы книги нам.
Но «им» книги я оставлять не хотел, а в том, что они попадут в тюремную библиотеку, сильно сомневался. Посадили в привычный воронок вместе с Борей Грезиным. Боре тоже объявили, что он свободен, и, как выяснилось, он уже знал, что отправят его домой — в Ригу. В казанском аэропорту мы попрощались. Мои охранники — конвойный офицер со знаковой фамилией Кандалин (я не раз ее встречал в тюрьмах) — объявили мне, что билетов на самолет в Москву нет и я поеду поездом.
После всего, что творилось в Чистопольской тюрьме, мне очень не хотелось оставаться с охранниками одному в машине. Но выхода не было. Если не недоверие, то неприязнь у нас с охранниками была обоюдной. Я не был уверен, естественно, не показывая им этого, что доеду с ними один живым до Казани. Они же сами не могли понять, что же сейчас происходит в стране, что же будет дальше с ними, если таких как я досрочно и внезапно освобождают. Мы опять стали трястись по заснеженной дороге из казанского аэропорта в город, но вдруг на полпути воронок остановился. Из кабины вылез Кандалин, открыл дверь воронка и сказал мне и двум конвойным офицерам:
Мы возвращаемся в аэропорт.
Действительно, воронок разворачивается, опять трясемся по той же дороге. Опять вхожу в аэровокзал, Бори не видно, но почти в центре зала, к моему удивлению — Янис Барканс, о котором все последнее время я ничего не мог узнать. Посвежевший, немного поздоровевший. Рассказывает, что почти два месяца был в какой-то больнице на лечении. Дав нам недолго поговорить, ко мне опять подходят конвойные и опять объявляют, что в Москву нет билетов. Я отвечаю, что я свободный человек и на городской вокзал поеду не с ними, а на такси — немного денег у меня было. Они все тут же исчезают, и я вижу через окно, что чуть ли не десяток машин такси охранники заставляют уехать из аэропорта. Всё совершенно непонятно и отвратительно, но тем временем из телефона-автомата мне удается позвонить домой, в Москву. Подходит теща — Зоя Александровна. Говорит, что Тома (жена) в Генеральной прокуратуре, пытается выяснить, где я, что со мной, жив ли. Письма от меня опять не доходят месяцев пять, но ей нигде ничего не говорят. На самом деле жена была в калужском КГБ. Накануне ей позвонила Софья Васильевна и сказала, что если она может оказать на меня какое-то влияние, то чтобы постаралась меня убедить подписать все, что мне предложат. Калистратова уже знала о готовящемся освобождении, но Тома не поняла ничего и поехала к моим «кураторам».
В калужском КГБ царила явная растерянность. Никто не хотел брать на себя ответственность за разговор с Томой, возможно и сами плохо понимали, что происходит и очень боялись ошибиться. Наконец, кто-то сказал:
— Возможно, он уже в дороге.
Но Тома так и не поняла в дороге куда и что со мной.
А я в таком же недоумении еду опять в воронке в Казань. До вокзала доезжаем вполне благополучно. Конвойные делают последнюю доступную им пакость: берут у меня справку об освобождении, приносят билет, а я забываю забрать у них справку. Через минут двадцать спохватываюсь, но их уже след простыл. Я в сапогах, тюремном бушлате и шапке (почему-то меня не переодели в мою же одежду, в которой меня арестовали и она должна была где-то храниться) — вполне очевидно, что меня тут же задержат для проверки документов, которых у меня нет. Дежурный по вокзалу посылает меня куда-то в город, где они могут быть, а я, уже ничего не понимая, иду в противоположную сторону, где и натыкаюсь на двух моих конвоиров. Оказывается, что справка об освобождении — у третьего, и они, меня оставив, уходят его искать, находят и приносят мне справку.
В Москве никаких проблем не было. Меня тут же прописали, хотя военный билет во время многочисленных обысков где-то затерялся, а без него прописывать было не положено. В «Новом мире» сразу же заключили со мной договор на публикации написанных в эмиграции текстов Алексея Ремизова и какие-то статьи. Главное же — с утра до вечера у подъезда стояли машины иностранных корреспондентов и я по нескольку раз на дню давал интервью об освобождении политзаключенных в Советском Союзе. По сути дела, вся эта сенсационная кампания и сосредоточилась на моем освобождении. В Москву, кроме меня, вернулся из ссылки Сергей Ковалев, из пермской зоны — Юра Шиханович. По разным причинам они не хотели встречаться с журналистами. Софья Васильевна Калистратова, понимая рекламный характер для советских властей этой кампании, тоже считала это неправильным. Но я считал, что встречаться с журналистами необходимо. Сперва от Бори Грезина, а потом в Москве я уже знал, что всех соседей из чистопольской тюрьмы не освободили, а перевели в московские, по преимуществу, тюрьмы, где требуют от них признания своей вины и покаяния совсем в других, чем от меня формах. Что в эти же дни в Чистопольской тюрьме якобы повесился Бобыльков. Рассказавший мне об этом Виталий Мамедов — тоже бывший солдат, много лет потом работавший в «Гласности», отвозил родным Бобылькова его вещи и зная Бобылькова, не верил, что он мог повеситься и считал, что и его убили. Возможно Бобыльков в Чистопольской тюрьме был единственным среди диссидентов, беглецов и даже «изменников родине» кого власти не хотели, не считали возможным выпустить на волю, ну так что же — ради него одного содержать политическую тюрьму. В политических колониях тоже почти все продолжали сидеть по-прежнему. Из нескольких сотен политзаключенных были освобождены только десять. Я говорил об этом, о гибели Толи Марченко. И по тому, что вскоре началось активное противодействие моим рассказам, стало ясно, что делать это необходимо. Приехавший, якобы на похороны Даниэля, Синявский срочно опубликовал в «Литературной газете» статью о том, что самые счастливые свои годы он провел в лагере. Появившийся в Москве Лев Волохонский — человек с прочной репутацией стукача в политических зонах, устраивал с помощью Новодворской публичные свои выступления, где рассказывал, что протесты в политических зонах бывают лишь оттого, что не всегда компот на третье бывает достаточно сладким. Судорожно метавшийся в поисках займов Горбачев (чего мы тогда не понимали) то заявлял, что политзаключенных в СССР нет вообще, то говорил, что живут они, как на курорте. К тому же довольно скоро стало ясно, что западные представления об освобождении советских политзаключенных, воспринимаемом как появление новых политических лидеров (скажем, как Нельсона Манделы в Южной Африке) с действительностью ничего общего не имеют. В СССР — это всего лишь вынужденный экономическим банкротством рекламный шаг мало пока меняющихся властей, и об этом тоже надо было говорить. Далеко не всё еще было ясно, но уже многое, в том числе в ближайшем будущем — вполне очевидно.
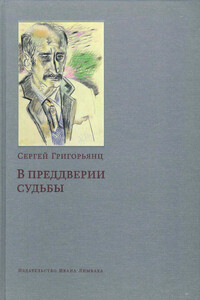
Первая книга автобиографической трилогии журналиста и литературоведа, председателя правозащитного фонда «Гласность», посвященная его семье, учебе в МГУ и началу коллекционирования, в результате которого возникла крупнейшая в России частная коллекция произведений искусства. Заметную роль в повествовании играют художник Л. Ф. Жегин и искусствовед Н. И. Харджиев, с которыми автора связывало многолетнее плодотворное общение. С. И. Григорьянц описывает также начало своей политической деятельности и дружбу с Виктором Некрасовым, Сергеем Параджановым, Варламом Шаламовым и Еленой Боннэр.

«Я знаю, что мои статьи последних лет у многих вызывают недоумение, у других — даже сожаление. В них много критики людей, с которыми меня теперь хотели бы объединить — некоторыми наиболее известными сегодня диссидентами и правозащитными организациями, казалось бы самыми демократически ориентированными средствами массовой информации и их редакторами и, наконец, правда изредка, даже с деятелями современного демократического движения, которые теперь уже всё понимают, и даже начали иногда говорить правду.
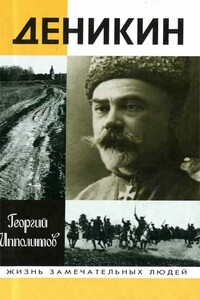
Антон Иванович Деникин — одна из важнейших и колоритных фигур отечественной истории. Отмеченный ярким полководческим талантом, он прожил нелегкую, полную драматизма жизнь, в которой отразилась сложная и противоречивая действительность России конца XIX и первой половины XX века. Его военная карьера повенчана с такими глобальными событиями, как Русско-японская, Первая мировая и Гражданская войны. Он изведал громкую славу побед и горечь поражений, тяготы эмиграции, скитаний за рубежом. В годы Второй мировой войны гитлеровцы склоняли генерала к сотрудничеству, но он ответил решительным отказом, ибо всю жизнь служил только России.Издание второе, дополненное и переработанное.Издательство и автор благодарят Государственный архив Российской Федерации за предоставленные к изданию фотоматериалы.Составитель фотоиллюстративного ряда Лидия Ивановна Петрушева.

Супруга самого молодого миллиардера в мире Марка Цукерберга – Присцилла Чан – наверняка может считаться одной из самых удачливых девушек в мире. Глядя на совместные фото пары, многие задаются вопросом: что же такого нашел Марк в своей институтской подруге? Но их союз еще раз доказывает, что доброта, участливость, внимание к окружающим и, главное, безоговорочная вера в своего мужчину куда ценнее растиражированной ненатуральной красоты. Чем же так привлекательна Присцилла Чан и почему все, кто знакомится с этой удивительной девушкой, непременно немного влюбляются в нее?
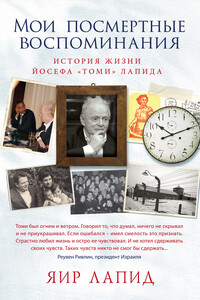
В этой книге историю своей исключительной жизни рассказывает легендарный Томи Лапид – популярнейший израильский журналист, драматург, телеведущий, руководитель крупнейшей газеты и Гостелерадио, министр юстиции, вице-премьер, лидер политической партии… Муж, отец и друг… В этой книге – его голос, его характер и его дух. Но написал ее сын Томи – Яир, сам известный журналист и телеведущий.Это очень личная история человека, спасшегося от Холокоста, обретшего новую родину и прожившего выдающуюся жизнь, и одновременно история становления Государства Израиль, свидетелем и самым активным участником которой был Томи Лапид.

Президентские выборы в Соединенных Штатах Америки всегда вызывают интерес. Но никогда результат не был столь ошеломительным. И весь мир пытается понять, что за человек сорок пятый президент Дональд Трамп?Трамп – символ перемен к лучшему для множества американцев, впавших в тоску и утративших надежду. А для всего мира его избрание – симптом кардинальных перемен в политической жизни Запада. Но чего от него ожидать? В новой книге Леонида Млечина – описание жизни и политический портрет нового хозяина Белого дома на фоне всей истории американского президентства.У Трампа руки развязаны.

Новую книгу «Рига известная и неизвестная» я писал вместе с читателями – рижанами, москвичами, англичанами. Вера Войцеховская, живущая ныне в Англии, рассказала о своем прапрадедушке, крупном царском чиновнике Николае Качалове, благодаря которому Александр Второй выделил Риге миллионы на развитие порта, дочь священника Лариса Шенрок – о храме в Дзинтари, настоятелем которого был ее отец, а московский архитектор Марина подарила уникальные открытки, позволяющие по-новому увидеть известные здания.Узнаете вы о рано ушедшем архитекторе Тизенгаузене – построившем в Межапарке около 50 зданий, о том, чем был знаменит давным-давно Рижский зоосад, которому в 2012-м исполняется сто лет.Никогда прежде я не писал о немецкой оккупации.

В книге известного публициста и журналиста В. Чередниченко рассказывается о повседневной деятельности лидера Партии регионов Виктора Януковича, который прошел путь от председателя Донецкой облгосадминистрации до главы государства. Автор показывает, как Виктор Федорович вместе с соратниками решает вопросы, во многом определяющие развитие экономики страны, будущее ее граждан; освещает проблемы, которые обсуждаются во время встреч Президента Украины с лидерами ведущих стран мира – России, США, Германии, Китая.