Тюремные записки - [77]
Горбачев. Представляется, что это предложение можно было бы поддержать.
Чебриков. Мы сделаем это разумно. Для того, чтобы быть уверенными, что указанные лица не будут продолжать заниматься враждебной деятельностью, за ними будет установлено наблюдение».
Фамилии Марченко пока нет ни в одном из немногих, ставших известными документов Политбюро. Может быть как раз потому, что он и был для них самой сложной проблемой.
Вновь начиналась обычная советская работорговля. В тексте совещания в зале Секретариата ЦК с членами Политбюро и помощниками, 22 сентября 1986 года то есть еще за четыре дня до «предложения» Чебрикова можно было прочесть то, что мы хорошо понимали и сами:
«Шеварднадзе. Рейган согласен на встречу в Рейкьявике… если будет решен вопрос о Данилове и если будет положительный ответ на список во главе с Сахаровым.
Горбачев. Если бы удалось провести Рейкьявик — это было бы очень полезно… И для Соединенных Штатов Америки. Данилова они получат. А что касается списка (кому было отказано в выезде), мы проглотили присланный нам из ООН список на 25 человек. По Данилову — Сахарову держаться надо твердо, не терять лица. Орлова (диссидента) через месяц отпустить. Относительно «двадцати пяти» ответим, а когда, как и кого из двадцати пяти это коснется — это другое дело…
Но имейте в виду: если у них нет интереса, то из этой встречи, конечно, ничего не получится. Нас нельзя обвинить в отсутствии конструктивности. Поэтому больше чем по Данилову и Орлову в течение месяца уступать нельзя».
Прошла еще неделя или дней десять после того, как Марченко прекратил голодовку, Толю по-прежнему держали одного в камере. А я из-за своих предыдущих голодовок и карцеров дошел до того, что уже довольно плохо ходил, и мне начали по утрам ежедневно делать уколы витаминов В-6 и В-12. Делал их фельдшер в комнате начальника отряда. И однажды на столе я увидел две стопки хорошо мне знакомых, еще по обыскам в Перми, где наши вещи иногда лежали рядом, общих тетрадей Толи (штук 20–30), аккуратно сложенных и сверху перекрытых инструкцией к слуховому аппарату. Толя постоянно, в любых тюрьмах и лагерях занимался самообразованием, но здесь было ясно, что тетради сложил не он — бессмысленная заводская инструкция к слуховому аппарату не могла иметь для него значения. Я тут же спросил фельдшера:
— Где Марченко?
— Вывезли в Казань, в больницу.
Это был вполне правдоподобный ответ. После длительной голодовки, да еще желая провести с Толей какие-нибудь переговоры, его вполне могли, как Бегуна, как Морозова, тоже отправить на время в Казань.
Но я провел в тюрьмах девять лет. И когда через час медсестра Соня стала разносить по камерам лекарства я, взяв у нее еще витаминов, спросил для проверки:
— А где Марченко?
— Увезли в чистопольскую больницу.
Этот ответ значил совсем другое. В Казани была закрытая межобластная больница МВД, возили туда зэков из Чистополя нередко, раз в полгода приезжали врачи оттуда для осмотра заключенных. Но в Чистополе была обычная городская больница, врачи которой стыдились, что в их маленьком городе находится политическая тюрьма и презирали тюремщиков. Единственный известный мне случай помещения туда зэка — лечение смертельно больного очень старого Юрия Шухевича, от которого врачи пытались передать письма на волю. Меня оба раза возили из Чистополя в Казань, во второй — с открытым переломом руки, на хлипком газике, по сильно ухабистой дороге. Если Толю отправили в чистопольскую больницу, значит, он при смерти.
Я начал стучать в дверь, требовал вызвать врачей, Чурбанова, объяснить, что происходит с Марченко. Внезапно оказалось, что тюрьма совершенно пуста. Кроме молодого дежурного сержанта, который ничего не мог сказать, никого не было — даже обязательного начальника смены, зам начальника политчасти Яшина, начальника по режиму, начальника тюрьмы. Не зная, что делать, я написал заявление о голодовке, отдал сержанту — никого в нашей части тюрьмы не было. Только к вечеру появился Чурбанов, стал меня уговаривать:
Вы же знаете, Григорьянц, Соня — старая дура. Она просто перепутала. С Марченко все в порядке, он в Казани.
Чурбанов, как и я, понимал разницу между больницами. Потом пришел Альмиев и повторял все за Чурбановым.
И я дал себя убедить, забрал заявление о голодовке, тем более, что никто в тюрьме меня не поддержал, только Миша Ривкин, услышав, объявил однодневную голодовку (но ни я, ни кто другой об этом не знал), хоть я громко кричал обо всем на коридор и в других обстоятельствах уже за это угодил бы в карцер. Все были озабочены чем-то своим.
На самом деле врали мне все: и медики, и Чурбанов— именно в эту ночь погиб Толя. Как именно он был убит, я не знаю. Недели через три, когда в смерти Толи я уже был уверен (мне в карцер постучал сверху Алеша Смирнов, узнавший об этом из Москвы), стал осторожно узнавать, как же это произошло.
Чурбанов мне нагло ответил:
— Вы же знаете, Григорьянц, что он был глухой.
Но, может быть, это был намек на последствия менингита.
Приехавший через месяц врач из казанской больницы, с которым я уже был довольно хорошо знаком, сказал осторожно:
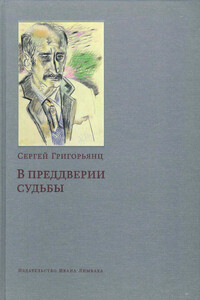
Первая книга автобиографической трилогии журналиста и литературоведа, председателя правозащитного фонда «Гласность», посвященная его семье, учебе в МГУ и началу коллекционирования, в результате которого возникла крупнейшая в России частная коллекция произведений искусства. Заметную роль в повествовании играют художник Л. Ф. Жегин и искусствовед Н. И. Харджиев, с которыми автора связывало многолетнее плодотворное общение. С. И. Григорьянц описывает также начало своей политической деятельности и дружбу с Виктором Некрасовым, Сергеем Параджановым, Варламом Шаламовым и Еленой Боннэр.

«Я знаю, что мои статьи последних лет у многих вызывают недоумение, у других — даже сожаление. В них много критики людей, с которыми меня теперь хотели бы объединить — некоторыми наиболее известными сегодня диссидентами и правозащитными организациями, казалось бы самыми демократически ориентированными средствами массовой информации и их редакторами и, наконец, правда изредка, даже с деятелями современного демократического движения, которые теперь уже всё понимают, и даже начали иногда говорить правду.

Новую книгу «Рига известная и неизвестная» я писал вместе с читателями – рижанами, москвичами, англичанами. Вера Войцеховская, живущая ныне в Англии, рассказала о своем прапрадедушке, крупном царском чиновнике Николае Качалове, благодаря которому Александр Второй выделил Риге миллионы на развитие порта, дочь священника Лариса Шенрок – о храме в Дзинтари, настоятелем которого был ее отец, а московский архитектор Марина подарила уникальные открытки, позволяющие по-новому увидеть известные здания.Узнаете вы о рано ушедшем архитекторе Тизенгаузене – построившем в Межапарке около 50 зданий, о том, чем был знаменит давным-давно Рижский зоосад, которому в 2012-м исполняется сто лет.Никогда прежде я не писал о немецкой оккупации.

В книге известного публициста и журналиста В. Чередниченко рассказывается о повседневной деятельности лидера Партии регионов Виктора Януковича, который прошел путь от председателя Донецкой облгосадминистрации до главы государства. Автор показывает, как Виктор Федорович вместе с соратниками решает вопросы, во многом определяющие развитие экономики страны, будущее ее граждан; освещает проблемы, которые обсуждаются во время встреч Президента Украины с лидерами ведущих стран мира – России, США, Германии, Китая.

На всех фотографиях он выглядит всегда одинаково: гладко причесанный, в пенсне, с небольшой щеткой усиков и застывшей в уголках тонких губ презрительной улыбкой – похожий скорее на школьного учителя, нежели на палача. На протяжении всей своей жизни он демонстрировал поразительную изворотливость и дипломатическое коварство, которые позволяли делать ему карьеру. Его возвышение в Третьем рейхе не было стечением случайных обстоятельств. Гиммлер осознанно стремился стать «великим инквизитором». В данной книге речь пойдет отнюдь не о том, какие преступления совершил Гиммлер.

В этой книге нет вымысла. Все в ней основано на подлинных фактах и событиях. Рассказывая о своей жизни и своем окружении, я, естественно, описывала все так, как оно мне запомнилось и запечатлелось в моем сознании, не стремясь рассказать обо всем – это было бы невозможно, да и ненужно. Что касается объективных условий существования, отразившихся в этой книге, то каждый читатель сможет, наверно, мысленно дополнить мое скупое повествование своим собственным жизненным опытом и знанием исторических фактов.Второе издание.

Очерк этот писался в 1970-е годы, когда было еще очень мало материалов о жизни и творчестве матери Марии. В моем распоряжении было два сборника ее стихов, подаренные мне А. В. Ведерниковым (Мать Мария. Стихотворения, поэмы, мистерии. Воспоминания об аресте и лагере в Равенсбрюк. – Париж, 1947; Мать Мария. Стихи. – Париж, 1949). Журналы «Путь» и «Новый град» доставал о. Александр Мень.Я старалась проследить путь м. Марии через ее стихи и статьи. Много цитировала, может быть, сверх меры, потому что хотела дать читателю услышать как можно более живой голос м.

«История» Г. А. Калиняка – настоящая энциклопедия жизни простого советского человека. Записки рабочего ленинградского завода «Электросила» охватывают почти все время существования СССР: от Гражданской войны до горбачевской перестройки.Судьба Георгия Александровича Калиняка сложилась очень непросто: с юности она бросала его из конца в конец взбаламученной революцией державы; он голодал, бродяжничал, работал на нэпмана, пока, наконец, не занял достойное место в рядах рабочего класса завода, которому оставался верен всю жизнь.В рядах сначала 3-й дивизии народного ополчения, а затем 63-й гвардейской стрелковой дивизии он прошел войну почти с самого первого и до последнего ее дня: пережил блокаду, сражался на Невском пятачке, был четырежды ранен.Мемуары Г.