Тургенев в русской культуре - [112]
Примечательно, что Михайловский, анализируя тургеневскую манеру письма, предварял приведенные выше собственные сходные упреки по адресу Чехова: «Он [Тургенев] любит <…> кружевную работу: возьмет известный фон и наплетет на нем множество тонких и совершенно случайных узоров, много способствующих особности, индивидуальности фигуры, но вместе с тем затемняющих ее основной характер, загромождающих его. Оттого-то из-за тургеневских образов и идет, то есть шла всегда перепалка между его толкователями, и притом такая странная, что один толкователь признавал белым то, что другой называл черным»[339].
В обоих случаях речь идет об отсутствии однозначного идеологического посыла, хотя, разумеется, в своем противопоставлении литераторов-отцов, «сложившихся в умственной атмосфере сороковых или шестидесятых годов»[340], и литераторов-детей, над которыми идеалы отцов бессильны, Михайловский вписывает Тургенева в ряд первых, тем самым противопоставляя его Чехову. Так будет делать и сам Чехов, не желавший «прикрывать своей пустоты чужими лоскутьями вроде идей 60-х годов» [Ч, 5, с. 134]. Парируя упреки в отсутствии внятно выраженных «идеалов», он, с одной стороны, обосновывает это собственно эстетическими соображениями, полагая, что в рамках избранной им стратегии «сочетать художество с проповедью»[341] невозможно; с другой стороны, по-базаровски хлестко и жестко обозначает неуместность разного рода «общих мест» в сложившейся ситуации: «когда кругом тебя тундра и эскимосы, то общие идеи, как неприменимые к настоящему, так же быстро расплываются и ускользают, как мысли о вечном блаженстве» [Ч, 6, с. 241, 242].
Опираясь на подобные высказывания, а также на само художественное творчество Чехова, современные исследователи, вслед за Шестовым, нередко абсолютизируют ничего как основу чеховского мировидения и творчества. Чехов, как и герой «Скучной истории», а до него Базаров, действительно, не имел живого бога, на которого можно опереться, за которого можно спрятаться, которым можно оправдаться и спастись. Но в случае Чехова, в отличие от случая Тургенева-Базарова, эта мировоззренческая позиция связывается с моментом кризиса культуры, смены культурных парадигм. «Тоска чеховских героев, – пишет В. Н. Порус, – мироощущение людей, живущих “у края культуры”, смутная тревога, подобная той, какую испытывают живые существа перед наступлением бытийного катаклизма. Она – от бессмыслия культуры, утратившей жизненный потенциал и ставшей “миром симулякров”. Отсюда всегдашняя готовность тоскующего человека к скепсису и саморазрушительной иронии»[342]. Такое переключение чеховского творчества в обобщенно-философской регистр приводит к неизбежной утрате той тончайшей художественной нюансировки, пристальной, скрупулезной детализации бытия, которая так раздражала Михайловского и составляла основу чеховского новаторства. При всей обобщающей силе созданных им образов, Чехов всегда конкретен и принципиально развернут от глобальных проблем к реальным лицам и судьбам. И в этом не слабость Чехова-мыслителя, а сила Чехова-художника.
Герои Чехова нередко оказываются в пустоте по собственной вине – в результате того, что они или обманывались в своих пристрастиях, или вообще не сумели нащупать и прожить собственный вариант судьбы. Большинство чеховских страдальцев-интеллигентов томятся и тоскуют не от несовершенства мира, а от собственной вторичности, нерешительности и потому – несостоятельности. Характернейший пример – дядя Ваня. Он всю жизнь служил придуманному, самовнушенному идеалу, в ранг которого возвел бездарного человека, умеющего создать впечатление собственной значительности. Как только профессор Серебряков потерял официальный статус значительного лица, а вместе с тем и внешний лоск, Войницкий наконец прозрел. Но толку от этого прозрения нет, так как его самого – нет. Он всегда жил подменой, «симулякром»: на место себя самого, каков он есть, подставлял нечто, на его вкус, более яркое и красивое, – служителя идеала. Разочаровавшись в Серебрякове, он сетует на то, что в нем умер Достоевский или Шопенгауэр. Однако и это – иллюзия. Он не Достоевский и не Шопенгауэр. Он – дядя Ваня, не желающий этого признать, принять и достойно прожить жизнь в своем собственном обличье и статусе. Задолго до чеховского «Дяди Вани» эта драма несостоятельности показана и прокомментирована Тургеневым в повести «Затишье»: приятели, окружающие распылившего собственную жизнь Веретьева, полагали, что, «не погуби он себя, из него черт знает что бы вышло… Эти люди ошибались: из Веретьевых никогда ничего не выходит». (В скобках заметим, что тургеневское «Затишье» – это во многом прообраз чеховской драмы.) Обобщение Шестова: «настоящий, единственный герой Чехова – это безнадежный человек», которому только и остается «колотиться головой о стену»[343], – нуждается в существенном уточнении. Когда Астров говорит Войницкому: «Наше с тобой положение, твое и мое, безнадежно», – это спасательный круг, который доктор бросает потерпевшему крушение приятелю, но положение их, при внешней погруженности в одну и ту же повседневную пошлость, принципиально разное и головой о стену они бьются по-разному: один – талант, «свободная голова», самоотверженный труженик, который изо дня в день, наперекор обстоятельствам и собственному скепсису, служит общему делу; другой – бессильный раб раз и навсегда усвоенных стереотипов; на мгновение прозрев относительно былых иллюзий, он ищет новых обманов и обольщений, но в конечном счете, ничего не найдя взамен, довольствуется прежним положением вещей: «Ты будешь аккуратно получать то же, что получал и раньше, – обещает он Серебрякову. – Все будет по-старому».

Послевоенные годы знаменуются решительным наступлением нашего морского рыболовства на открытые, ранее не охваченные промыслом районы Мирового океана. Одним из таких районов стала тропическая Атлантика, прилегающая к берегам Северо-западной Африки, где советские рыбаки в 1958 году впервые подняли свои вымпелы и с успехом приступили к новому для них промыслу замечательной деликатесной рыбы сардины. Но это было не простым делом и потребовало не только напряженного труда рыбаков, но и больших исследований ученых-специалистов.
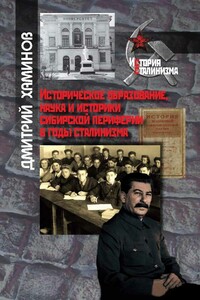
Настоящая монография посвящена изучению системы исторического образования и исторической науки в рамках сибирского научно-образовательного комплекса второй половины 1920-х – первой половины 1950-х гг. Период сталинизма в истории нашей страны характеризуется определенной дихотомией. С одной стороны, это время диктатуры коммунистической партии во всех сферах жизни советского общества, политических репрессий и идеологических кампаний. С другой стороны, именно в эти годы были заложены базовые институциональные основы развития исторического образования, исторической науки, принципов взаимоотношения исторического сообщества с государством, которые определили это развитие на десятилетия вперед, в том числе сохранившись во многих чертах и до сегодняшнего времени.

Монография посвящена проблеме самоидентификации русской интеллигенции, рассмотренной в историко-философском и историко-культурном срезах. Логически текст состоит из двух частей. В первой рассмотрено становление интеллигенции, начиная с XVIII века и по сегодняшний день, дана проблематизация важнейших тем и идей; вторая раскрывает своеобразную интеллектуальную, духовную, жизненную оппозицию Ф. М. Достоевского и Л. Н. Толстого по отношению к истории, статусу и судьбе русской интеллигенции. Оба писателя, будучи людьми диаметрально противоположных мировоззренческих взглядов, оказались “versus” интеллигентских приемов мышления, идеологии, базовых ценностей и моделей поведения.
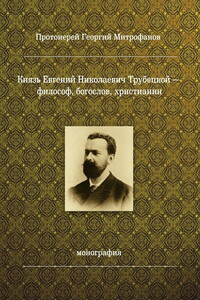
Монография протоиерея Георгия Митрофанова, известного историка, доктора богословия, кандидата философских наук, заведующего кафедрой церковной истории Санкт-Петербургской духовной академии, написана на основе кандидатской диссертации автора «Творчество Е. Н. Трубецкого как опыт философского обоснования религиозного мировоззрения» (2008) и посвящена творчеству в области религиозной философии выдающегося отечественного мыслителя князя Евгения Николаевича Трубецкого (1863-1920). В монографии показано, что Е.
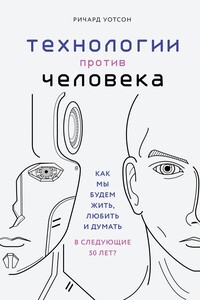
Эксперты пророчат, что следующие 50 лет будут определяться взаимоотношениями людей и технологий. Грядущие изобретения, несомненно, изменят нашу жизнь, вопрос состоит в том, до какой степени? Чего мы ждем от новых технологий и что хотим получить с их помощью? Как они изменят сферу медиа, экономику, здравоохранение, образование и нашу повседневную жизнь в целом? Ричард Уотсон призывает задуматься о современном обществе и представить, какой мир мы хотим создать в будущем. Он доступно и интересно исследует возможное влияние технологий на все сферы нашей жизни.

Что такое, в сущности, лес, откуда у людей с ним такая тесная связь? Для человека это не просто источник сырья или зеленый фитнес-центр – лес может стать местом духовных исканий, служить исцелению и просвещению. Биолог, эколог и журналист Адриане Лохнер рассматривает лес с культурно-исторической и с научной точек зрения. Вы узнаете, как устроена лесная экосистема, познакомитесь с различными типами леса, характеризующимися по составу видов деревьев и по условиям окружающей среды, а также с видами лесопользования и с некоторыми аспектами охраны лесов. «Когда видишь зеленые вершины холмов, которые волнами катятся до горизонта, вдруг охватывает оптимизм.