Три жизни - [5]
— Где же он значится?! Где он? Где?! — кричала мама. — Отдайте его!
— Успокойтесь, гражданка! Выпейте воды! — сквозь сжатые губы процедил хозяин кабинета, схватив ее за руки.
Но она не выпускала китель и продолжала рыдать. Чекист сначала пытался вырваться, оторвать от себя ее руки, а потом со всей силой с размаху ударил мать по щеке.
Я бросился защищать ее, но был отброшен ударом сапога к батарее. Удар был такой сильный, что я напоролся левым боком на ржавый, покрытый маслом штырь, который вошел мне прямо в тело.
— Леня! Сыночек! — бросилась ко мне мать. — Ты не ушибся?
Бок моей чистой выходной рубахи был в крови.
— Изверги! Вы чего с детями делаете? Своих что ли нету? — причитала мать.
— Поговори мне тут! — прикрикнул на нее чекист и нажал на кнопку звонка.
В кабинет сразу же вбежал солдат, как будто он стоял и ждал под самой дверью.
— Уведите! — приказал военный.
Нас с мамой вывели на улицу.
Всю дорогу до дому мать несла меня на руках. Бок болел очень сильно. Дома меня раздели, мама промыла рану и смазала йодом. Я кричал и вырывался, но меня крепко держала тетя Надя.
Ночью я спал плохо, у меня поднялась температура. Мать поила меня горячим чаем с малиновым вареньем. К врачам в те годы ходили только в крайнем случае, всем казалось, что и так обойдется. Мало ли что бывает с мальчишками? Они бегают, падают, набивают шишки, и на них все быстро заживает.
Моя рана заживала плохо и все время гноилась.
— Чем это у нас так пахнет? — спросил однажды дядя Вася. — Что-нибудь испортилось?
Дома у нас всегда было очень чисто, полы вымыты набело, мусор выносили сразу же и выбрасывали.
— Может, где-то крыса сдохла? — предположила тетя Надя. — Под полом.
Очень скоро я обнаружил, что это пахло от меня. У гноя, который сочился из раны, был неприятный, отталкивающий запах.
Потом это заметили и другие. Меня стали сторониться. Дядя Вася отворачивался, проходя мимо меня. Мать одела меня и снова на руках понесла в больницу. Мы прошли вдоль старинных львовских домов, которые мне всегда нравились, но в этот раз я их не видел. Перед глазами все плыло, раздваивалось. Казалось, что улицы тоже с отвращением убегали от меня.
В больнице мне сделали анализ крови, и врач сказал, что уже ничего нельзя поделать, нужно было обратиться в больницу раньше.
— У него сильный жар, рана воспалена. Это заражение крови. В таком состоянии даже нельзя оперировать, — сказал врач.
— А лекарства? — спросила мама.
Врач развел руками.
— Я вам выпишу пенициллин. Но боюсь, что уже поздно. Нужно было действовать хотя бы месяц назад.
Как мы добрались до дома, я не помню. Мне становилось все хуже. Я почти не вставал, хотя по-настоящему спал мало. Это был какой-то полусон, полубред. Я видел деда, который строил мост, а мост все время сносило обвалами. Он начинал строить заново, но вода в реке прибывала, начинала крутить водовороты и уносила обломки моста вниз по течению.
Однажды я проснулся очень рано и ясно почувствовал, что сегодня умру.
В комнате было еще темно. За окном только начинало светать. Холодный октябрьский ветер гонял по улице последние, насквозь проржавевшие листья. Я лежал неподвижно и смотрел в окно. Небо голубело на глазах. Дома из черных становились коричневыми, потом темно-желтыми. Я загадал, что если удержусь и не шевельну ни рукой, ни ногой до первого луча солнца, то значит, умру не сегодня, а завтра или даже послезавтра. Дальше я даже не пытался загадывать. Но чем светлее становилось на улице, тем меньше оставалось надежды на то, что солнце сегодня появится вообще.
Как-то раз, полгода назад, мать заперла меня одного в квартире. Я не собирался никуда выходить, с улицы несло весенним мокрым холодом, мы только что пообедали, печка была горячая, и внутри у нее приятно трещало, на столе стояло блюдо со сладким хворостом, который мама разрешила мне брать — ешь хоть весь! — но как только я понял, что дверь заперта, неудержимое желание выбраться наружу охватило меня. Я стал трясти дверь квартиры, биться в нее головой, колотить ногами, схватил табуретку и бросил ее изо всех сил в замок. Дверь не поддавалась, и никто меня не слышал: соседи были на работе. Тогда я ухитрился открыть окно и как был, без пальто и в тапках, стал вылезать на карниз и спрыгнул бы со второго этажа, если б не вернулась тетя Надя.
— Он у тебя какой-то бешеный! — сказала тетя Надя маме вечером, когда та вернулась.
Больше меня никогда не запирали.
Я представил себе, что солнце тоже сегодня сидит взаперти у себя за тучами, обложившими небо. И тут я впервые подумал, что никогда больше его не увижу.
«Значит, сегодня!» — понял я.
Помню, что эта мысль меня не расстроила. Я почувствовал даже облегчение.
«Мама, конечно, будет плакать, — рассуждал я про себя. — Но тетя Надя скажет, что я отмучился, и она перестанет. Тетя Надя так всегда говорит про умерших. Некоторые мучаются по несколько лет, а когда умирают, всем становится легче».
Я попытался представить, как меня будут хоронить, кто придет и что будут говорить, но тут на тумбочке зазвонил будильник, поставленный для Витьки. Витька даже не пошевелился, а я потянулся к будильнику рукой и едва не закричал от пронзившей все тело острой боли.

1995-й, Гавайи. Отправившись с родителями кататься на яхте, семилетний Ноа Флорес падает за борт. Когда поверхность воды вспенивается от акульих плавников, все замирают от ужаса — малыш обречен. Но происходит чудо — одна из акул, осторожно держа Ноа в пасти, доставляет его к борту судна. Эта история становится семейной легендой. Семья Ноа, пострадавшая, как и многие жители островов, от краха сахарно-тростниковой промышленности, сочла странное происшествие знаком благосклонности гавайских богов. А позже, когда у мальчика проявились особые способности, родные окончательно в этом уверились.

Ирен, археолог по профессии, даже представить себе не могла, что обычная командировка изменит ее жизнь. Ей удалось найти тайник, который в течение нескольких веков пролежал на самом видном месте. Дальше – больше. В ее руки попадает древняя рукопись, в которой зашифрованы места, где возможно спрятаны сокровища. Сумев разгадать некоторые из них, они вместе со своей институтской подругой Верой отправляются в путешествие на их поиски. А любовь? Любовь – это желание жить и находить все самое лучшее в самой жизни!

Французская романистка Карин Тюиль, выпустившая более десяти успешных книг, стала по-настоящему знаменитой с выходом в 2019 году романа «Дела человеческие», в центре которого громкий судебный процесс об изнасиловании и «серой зоне» согласия. На наших глазах расстается блестящая парижская пара – популярный телеведущий, любимец публики Жан Фарель и его жена Клер, известная журналистка, отстаивающая права женщин. Надлом происходит и в другой семье: лицейский преподаватель Адам Визман теряет голову от любви к Клер, отвечающей ему взаимностью.
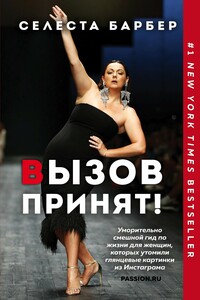
Селеста Барбер – актриса и комик из Австралии. Несколько лет назад она начала публиковать в своем инстаграм-аккаунте пародии на инста-див и фешен-съемки, где девушки с идеальными телами сидят в претенциозных позах, артистично изгибаются или непринужденно пьют утренний смузи в одном белье. Нужно сказать, что Селеста родила двоих детей и размер ее одежды совсем не S. За восемнадцать месяцев количество ее подписчиков выросло до 3 миллионов. Она стала живым воплощением той женской части инстаграма, что наблюдает за глянцевыми картинками со смесью скепсиса, зависти и восхищения, – то есть большинства женщин, у которых слишком много забот, чтобы с непринужденным видом жевать лист органического салата или медитировать на морском побережье с укладкой и макияжем.
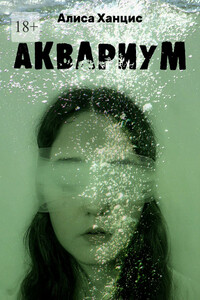
Апрель девяносто первого. После смерти родителей студент консерватории Тео становится опекуном своего младшего брата и сестры. Спустя десять лет все трое по-прежнему тесно привязаны друг к другу сложными и порой мучительными узами. Когда один из них испытывает творческий кризис, остальные пытаются ему помочь. Невинная детская игра, перенесенная в плоскость взрослых тем, грозит обернуться трагедией, но брат и сестра готовы на всё, чтобы вернуть близкому человеку вдохновение.
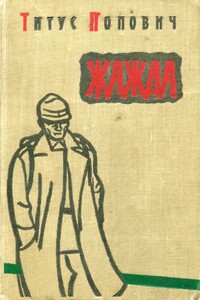
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.