Три еретика - [157]
Публика хвалит, ну, а опытного старого литератора не надуете…»
Прервем цитату. В принципе Достоевский прав, но его определение легко распространяется на художественную речь вообще; в конце концов, и его собственные герои говорят эссенциями, только не «бытовыми», а философскими: в реальности два провинциальных дворянина, сидя в трактире где–нибудь в Скотопригоньевске, ни за что не смогут вести диалог Ивана и Алеши Карамазовых. Чем сильнее писатель, тем сильнее эссенция, даже если она создает полную иллюзию реальности; это все–таки иллюзия, потому что механически точно воспроизведенная эмпирика есть просто мертвый протокол. Эссенция — закон художества и закон духовности, вопрос только в предмете и смысле сгущения. А вот этого–то и нет в рассуждении Достоевского: нет определения того, что именно вызывает к жизни лесковскую сгущенность. Попробуем хотя бы почувствовать, за что Достоевский ее отвергает:
«…И большею частию работа вывескная,[25] малярная… Правда, есть оттенки и между „художниками–записывателями“; один все–таки другого талантливее, а потому употребляет словечки с оглядкой, сообразно с эпохой, с местом (выделено мною. — Л. А.), с развитием лица и соблюдая пропорцию. Но эссенциозности все–таки избежать не может… Чувство меры уже совсем исчезает…»
Опять–таки чутье — поразительное: как подмечена несоразмерность, безмерность лесковской образности! Четверть века спустя Н.Михайловский разовьет это вскользь брошенное замечание Достоевского в целую концепцию лесковского творчества… Оно действительно причудливо, странно и несообразно — с точки зрения той культурной эпохи, внутри которой ощущает себя Достоевский. Условно можно назвать эту эпоху послепетровской. Лесков действительно «из другой эпохи». Достоевский все чувствует. Но он недочет вдумываться в духовную реальность, которая вызвала к жизни лесковские эссенции, потому что эта реальность от него далека, — Достоевский просто отвергает ее с порога.
Размышляя сегодня о тех человеческих ценностях, которые отстаивают оба классика, мы чувствуем скорее их глубинное единство, чем разность, скорее общий в наших глазах духовный и нравственный пафос, чем частные расхождения: на расстоянии в сто лет эти расхождения и впрямь могут показаться нам несущественными. Достоевского, конечно же, должен раздражать тот трезвый практицизм, за которым Лесков хитро прячет «праведность» своих героев, — Достоевский не может не отвергать такое лукавство в сфере духовного строительства, где сам–то Достоевский как раз предельно серьезен. Однако серьезность, с какой Достоевский уповает на преображение всей глобально понятой реальности в некоем теократическом государстве будущего, на спасения, которое чудесным образом придет со стороны «Власов», кающихся и некающихся, со стороны народа, пребывающего в грехе («не Петербург же разрешит окончательную судьбу русскую», — написано за месяц до «Смятенного вида»), — эта вера Лескову, с его конкретной трезвостью в глобальных вопросах, должна казаться непрактичной и утопичной, а если брать поправки на полемический пыл и злобу дня, — то хуже того: обскурантской и дилетантской разом. Лесков не верит ни в церковь, ни в чудеса — Достоевский не верит, что такое неверие может сочетаться с праведностью: лесковские праведники вырастают из подпочвы, ему неведомой. Общего языка нет, хотя оба писателя решают одну задачу: оба пытаются применить нравственный абсолют к человеческим ценностям и человеческие ценности к реальной жизни. Фигурально говоря, оба строят один замок, но тот — с воздуха, а этот — с земли. Из небесной бездны земная глубь на различается; связи почти нет; возникает не связь, а аннигиляция…
Последним абзацем своей статьи Достоевский небрежно разделывается с газетой, давшей его оппоненту слово:
«А при чем же тут сам „Русский мир“? Решительно не знаю. Ничего и никогда не имел с „Русским миром“ и не предполагал иметь. Бог знает, с чего вскочут люди».
Лесков не ответил.
Чтобы закончить историю взаимоотношений двух великих писателей: год спустя, весной 1874–го, Лесков ловит наконец своего противника на неточности: на неудачном выражении «светская беспоповщина», и в «Дневнике Меркула Праотцева» (идущем опять–таки без подписи) заметил: «Это с ним хроническое: всякий раз, когда он (Достоевский. — Л.А.) заговорит о чем–нибудь, касающемся религии, он непременно всегда выскажется так, что за него только остается молиться: „Отче, отпусти ему!“» На сей раз не ответил Достоевский. О чувствах его по отношению к Лескову в ту пору говорит эпиграмма (каламбур в ней связан с тем, что Лесков отошел от изображения духовенства и начал печатать «Захудалый род» — семейную хронику князей Протозановых). Достоевский набрасывает на полях рукописи «Подростка»: «Описывать все сплошь одних попов, по–моему, и скучно и не в моде; теперь ты пишешь в захудалом роде; не провались, Л–в».
В печати — ни слова.
Через три года Лесков, прочитав статью Достоевского о толстовской «Анне Карениной», тотчас же, ночью, в страшном волнении пишет ему несколько восторженных строк.
Достоевский не отвечает.
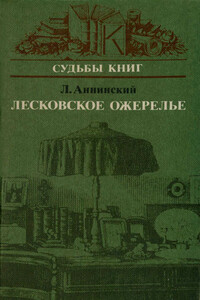
Первое издание книги раскрывало судьбу раннего романа Н. С. Лескова, вызвавшего бурю в современной ему критике, и его прославленных произведений: «Левша» и «Леди Макбет Мценского уезда», «Запечатленный ангел» и «Тупейный художник».Первое издание было хорошо принято и читателями, и критикой. Второе издание дополнено двумя новыми главами о судьбе «Соборян» и «Железной воли». Прежние главы обогащены новыми разысканиями, сведениями о последних событиях в жизни лесковских текстов.Автор раскрывает сложную судьбу самобытных произведений Лескова.
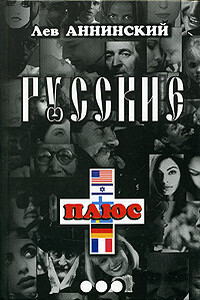
Народы осознают себя, глядясь друг в друга, как в зеркала. Книга публицистики Льва Аннинского посвящена месту России и русских в изменяющемся современном мире, взаимоотношениям народов ближнего зарубежья после распада СССР и острым вопросам теперешнего межнационального взаимодействия.
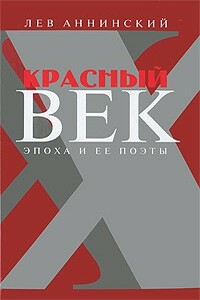
Двухтомник известного критика и литературоведа Льва Аннинского содержит творческие биографии российских поэтов XX века, сумевших в своем творчестве наиболее полно и ярко выразить время и чьи судьбы неразрывно переплелись с историей страны. Книги могут быть использованы как пособие по литературе, но задача, которую ставит перед собой автор, значительно серьезнее: исследовать социальные и психологические ситуации, обусловившие взлет поэзии в Красный век.В первый том вошли литературные очерки, героями которых стали А.Блок, Н.Клюев, В.Хлебников, Н.Гумилев, И.Северянин, Вл.

Творчество известного литературоведа Льва Александровича Аннинского, наверное, нельзя в полной мере назвать просто литературной критикой. Классики отечественной словесности будто сходят со школьных портретов и предстают перед читателем как живые люди – в переплетении своих взаимоотношений, сложности характеров и устремлениях к идеям.Написанные прекрасным литературным языком, произведения Льва Александровича, несомненно, будут интересны истинным любителям русского слова, уставшим от низкопробного чтива, коим наводнен сегодняшний книжный рынок…

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Более тридцати лет Елена Макарова рассказывает об истории гетто Терезин и курирует международные выставки, посвященные этой теме. На ее счету четырехтомное историческое исследование «Крепость над бездной», а также роман «Фридл» о судьбе художницы и педагога Фридл Дикер-Брандейс (1898–1944). Документальный роман «Путеводитель потерянных» органично продолжает эту многолетнюю работу. Основываясь на диалогах с бывшими узниками гетто и лагерей смерти, Макарова создает широкое историческое полотно жизни людей, которым заново приходилось учиться любить, доверять людям, думать, работать.

В ряду величайших сражений, в которых участвовала и победила наша страна, особое место занимает Сталинградская битва — коренной перелом в ходе Второй мировой войны. Среди литературы, посвященной этой великой победе, выделяются воспоминания ее участников — от маршалов и генералов до солдат. В этих мемуарах есть лишь один недостаток — авторы почти ничего не пишут о себе. Вы не найдете у них слов и оценок того, каков был их личный вклад в победу над врагом, какого колоссального напряжения и сил стоила им война.

Франсиско Гойя-и-Лусьентес (1746–1828) — художник, чье имя неотделимо от бурной эпохи революционных потрясений, от надежд и разочарований его современников. Его биография, написанная известным искусствоведом Александром Якимовичем, включает в себя анекдоты, интермедии, научные гипотезы, субъективные догадки и другие попытки приблизиться к волнующим, пугающим и удивительным смыслам картин великого мастера живописи и графики. Читатель встретит здесь близких друзей Гойи, его единомышленников, антагонистов, почитателей и соперников.

Автобиография выдающегося немецкого философа Соломона Маймона (1753–1800) является поистине уникальным сочинением, которому, по общему мнению исследователей, нет равных в европейской мемуарной литературе второй половины XVIII в. Проделав самостоятельный путь из польского местечка до Берлина, от подающего великие надежды молодого талмудиста до философа, сподвижника Иоганна Фихте и Иммануила Канта, Маймон оставил, помимо большого философского наследия, удивительные воспоминания, которые не только стали важнейшим документом в изучении быта и нравов Польши и евреев Восточной Европы, но и являются без преувеличения гимном Просвещению и силе человеческого духа.Данной «Автобиографией» открывается книжная серия «Наследие Соломона Маймона», цель которой — ознакомление русскоязычных читателей с его творчеством.

Работа Вальтера Грундмана по-новому освещает личность Иисуса в связи с той религиозно-исторической обстановкой, в которой он действовал. Герхарт Эллерт в своей увлекательной книге, посвященной Пророку Аллаха Мухаммеду, позволяет читателю пережить судьбу этой великой личности, кардинально изменившей своим учением, исламом, Ближний и Средний Восток. Предназначена для широкого круга читателей.

Фамилия Чемберлен известна у нас почти всем благодаря популярному в 1920-е годы флешмобу «Наш ответ Чемберлену!», ставшему поговоркой (кому и за что требовался ответ, читатель узнает по ходу повествования). В книге речь идет о младшем из знаменитой династии Чемберленов — Невилле (1869–1940), которому удалось взойти на вершину власти Британской империи — стать премьер-министром. Именно этот Чемберлен, получивший прозвище «Джентльмен с зонтиком», трижды летал к Гитлеру в сентябре 1938 года и по сути убедил его подписать Мюнхенское соглашение, полагая при этом, что гарантирует «мир для нашего поколения».
