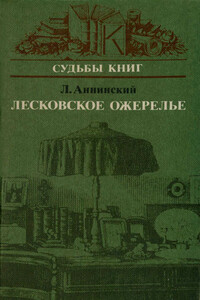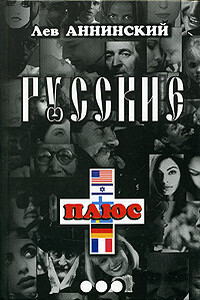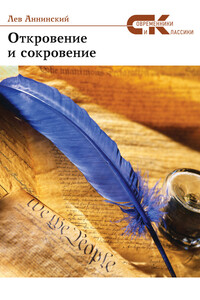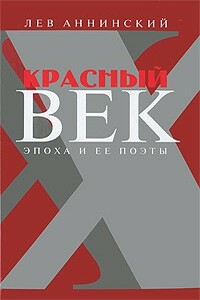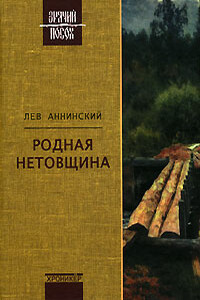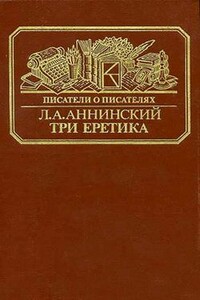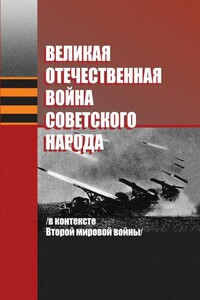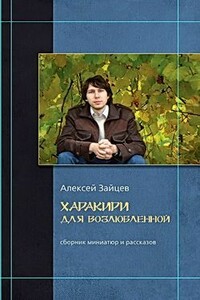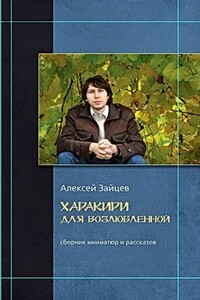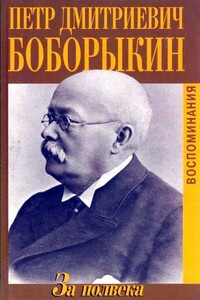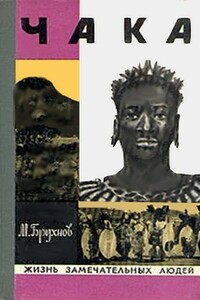Врезался на всю жизнь. Хотя общение длилось считанные часы.
По часу на каждое занятие, раз в неделю, когда на первом курсе нас в обязательном порядке (так что я и не выбирал) обязали посещать семинар по древнерусской литературе.
Древнерусская литература меня не влекла, но плотный невысокий черноволосый преподаватель приковал внимание сразу.
— Кто из вас помнит, в каком году произошло Крещение Руси? — спросил он.
Все замерли.
— В девятьсот восемьдесят восьмом! — рявкнул я и, чтобы скрыть смущение, прибавил ерническим тоном: — Нашей эры.
Преподаватель всмотрелся в меня и мгновенно задал следующий вопрос — тоже по хронологии. Я ответил. На третьей или четвертой дате он все-таки меня «посадил», и я честно склонил голову: игра мне понравилась. Уже тем, что он обыграл меня на равных, а не заткнул рот, как малолетнему. Уважение!
Позднее мне объяснили старшекурсники, что все филологи должны пройти через руки Либана. «Почему?» — спросил я. «Он ставит руку».
Однажды он между делом вогнал в одну фразу «школьную схему анализа», от которого нам, профессиональным филологам, следует отучиться. «Тема — проблема — идея — средства — изобразиельные — выразительные». Я отучился, разумеется. Но для этого мне нужно было ее, школьную схему, вогнать в одну, блестяще сжатую фразу. Чтобы отказаться, следовало ее усвоить. Возможно, это и есть «поставить руку».
Чем-то он напомнил мне Халдея, моего любимого школьного словесника. Хотя тот читал нам партийные прописи, а этот — вирши и апокрифы, в том и другом было что-то мужское, «отцовское», по чему тосковала моя сиротская душа. Хотя обликом они контрастировали: тот был — носатый, очкастый, усатый, разлапистомноготелесный в своей толстовской робе, а этот — крепко сбитый, строгий, с поджатыми смеющимися губами.
Заниматься с ним было — наслаждение. От него я узнал много того попутного, чем оперяется любое знание. Это было блистательное сочетание схемы и фактуры, моя мечта: железная схема и вольная фактура!
Он поразительно чувствовал стихи. И древние, и современные. Он отучил нас читать «смысл» («смысл читают плохие актеры») и научил слушать просодию, смыслы же — только через нее.
Он усадил нас за «Начальную русскую летопись», и с его легкой руки я просиживал дни в Исторической библиотеке за Буслаевым.
И наконец… он сказал мне при расставании, когда на втором курсе я записался в семинар по современной советской литературе:
— Вы делаете ошибку. Настоящим филологом можно стать только тут, на нашей кафедре.
Я опустил голову:
— Мне хотелось бы заниматься современностью…
— Вольному воля, — ответил он в своей насмешливой интонации. И прибавил, поняв мои мысли: — Литературной критикой хотите заниматься? Похвальное намерение. Но там Вас этому не научат.
— А где… научат? — проговорил я, пряча глаза.
— Где? Встречный вопрос: кто самый лучший критик в истории русской литературы, включая, конечно, и советскую?
— Писарев! — выпалил я, оправившись от оцепенения.
— Типичный ответ девятиклассника… Лучший критик — Чернышевский. Если говорить о литературной критике в собственном смысле слова, а не о попутных занятиях, иногда очень важных.
— Николай Иванович, — пробормотал я неуверенно, — Вы позволите мне… приходить к Вам… и… общаться? Мне там… в советской литературе… будет не хватать Буслаева, Нестора и… да… и Чернышевского.
Не помню, сказал ли он мне: «Я в Вас верю». Кажется, нет. (Это мне три года спустя весьма отчетливо сказал Лев Якименко.) Но от прощания с Либаном осталось именно это сложное чувство: сожаление и вера.
Четыре года спустя судьба дала случай убедиться в его отношении ко мне. Последующие редкие и лестные для меня разговоры (в частности о «Лесковском ожерелье») с уже совершенно седым учителем — я оставляю «за рамками кадра», а о том, что было «на краю рамки» — в 1956 году, — скажу. В числе других распределенных в аспирантуру выпускников я сдал вступительные экзамены (довольно тяжелые, кстати) и в числе этих выпускников, прошедших конкурс, получил документы обратно — как человек, не имеющий трудового стажа. Спорить было бесполезно: решение «орабочить» науку было принято на уровне ЦК партии — в связи с восстанием в Венгрии. Никому на советской кафедре и в голову не пришло защищать меня в такой ситуации: дело пахло политикой.
Единственный, кто пошел в деканат и попробовал меня «отстоять», был Николай Иванович, у которого я проучился-то один семестр за пять лет до того. Разумеется, я не от него узнал, что он пытался мне помочь. Пересказали…
А от считанных часов семинара на первом курсе остался в моей памяти навсегда — невысокий, крепкий человек с ироническим взглядом из-под кустистых бровей и «прочными» согласными в ясной русской речи:
— Чтобы научиться слышать стих, надо набить себе ухо…