Тревожный звон славы - [187]
И поэты заговорили о поэзии.
— «Борис Годунов» привёл меня в совершенное восхищение. Однако, замечу, ты стал позволять себе быть прозаическим. Почему? Боюсь, как бы лёгкость в писанин не обратилась у тебя в небрежность... — Это снова говорил учитель своему ученику.
— Видишь ли, — сказал Пушкин, совершенно несвоевременно рассматривая длинные свои ногти, — титанические страсти Лира, Ричарда, Отелло чужды России, а мне чужд расцвеченный шекспировский язык, полный метафор, риторических оборотов и поэтических фигур... Я пошёл за Шекспиром... но, видишь ли, есть дорога и далее Шекспира. Ах, я желал бы увидеть свою трагедию на сцене!
— Я сделаю всё возможное, — пообещал Жуковский. — При первой же беседе с государем...
— Язык, язык трагедии! — воскликнул Пушкин. — То торжественный, то простой, то грубый — в отличие от жеманной напыщенности языка французской трагедии... Я полагаю, что всё же чего-то достиг!
— О тебе я говорил великому Гёте во время недавнего свидания с ним в Веймаре. О, он воистину олимпиец. — Жуковский показал на картину на стене — подарок Гёте: в рамке готического окна, на фоне стрельчатых соборов была изображена одинокая арфа. Внизу начертаны были стихи Жуковского:
Волнение вызывало у Пушкина потребность в движении. Он то садился, то вскакивал, то ходил по кабинету.
— Ты гений, он гений, вы все гении... Но, Боже мой, скажи мне: где у нас в России такие окна, такие соборы?.. Ты дышишь воздухом Германии, а нам нужно русское, своё, русское.
Жуковский остался по-прежнему благодушным.
— Видишь ли, — признался он, — меня и в самом деле образовали именно Шиллер и Гёте... Что ж делать! Немецкая идеальность как-то сделалась и собственной моей...
— Я обращался к Гёте, перечитываю и теперь, — произнёс Пушкин. — Правда, не столько в подлинниках, сколько во французских старых переводах, подправленных Гизо. Что сказать: поэт великий, но всё же больше ценю в нём обширность создания, чем стих. Я говорю о «Фаусте». Впрочем, и у меня есть столь же обширный замысел об Агасфере... Всё-таки, скажу тебе, Гёте уступает и Шекспиру, и Данте, и Мильтону[363].
Жуковский внимательно посмотрел Пушкину в лицо.
— Сверчок, не залетаешь ли ты в мечтах слишком высоко?
Нет, он не залетел в мечтах слишком высоко. Он прекрасно знал, что никто до него не выражал с таким совершенством столь глубокие истины, но и средства и истины казались простыми из-за предельной сдержанности. Обращают внимание на франтов, а он ни на чём не настаивал, предоставляя жизни течь, без однобокости, такой, какая она есть, но в русле красоты и гармонии.
— Всё дело в том, — сказал он, — чтобы из земного и частного сделать всеобщее и непреходящее. Вот послушай, я написал «Ариона»:
О чём это? О ком? Ты догадываешься?
И цензура пропустила — не могла не пропустить. Что это — древний миф? Или недавние события? Или бури и вихри грядущего? И то, и другое, и третье, потому что нужно создавать вечное на века. Вот этого-то твой Гёте, мне кажется, не смог достигнуть. И уже не достигнет, потому что он полутруп...
Жуковский смотрел на бывшего ученика с удивлением: всё же Сверчок уже был не Сверчком.
А Пушкин, после взрыва, как-то притих, даже приуныл. Не он ли когда-то упивался романтизмом, мечтательностью, меланхолией Жуковского? Он наслаждался музыкой стихов Жуковского. Он и в самом деле был его учеником. Но уже давно сам он ушёл далеко вперёд. Он поднялся высоко. А на высоте холодно. У него не было спутников. И он почувствовал холод одиночества.
XL
— Никита, старый чёрт, да открой ты форточку!
— К вам, Александр Сергеевич, пожаловали...
Вошёл Плетнёв — счастливый, улыбающийся, энергично помахивающий точёной чёрной тростью. Она, кажется, и была единственной данью моде скромного этого труженика.
Пушкин даже не приподнялся на постели и, не переставая писать, приветливо помахал рукой и указал на кресло. Плетнёв сел, выставив перед собой трость, которая, впрочем, вовсе ему была не нужна. О исподлобья поглядывал на Пушкина.
Тот вдруг захохотал, потом сосредоточился и что-то записал, вновь захохотал, затем отбросил перо и тетрадь.
— Я для тебя всё: и родственник, и друг, и издатель, и кассир, — сказал Плетнёв. — Но ты меня отблагодарил сверх меры.
Лицо его осветилось доброй улыбкой. Глубоко посаженные небольшие глаза восхищённо смотрели на Пушкина. Простота, естественность, скромность, а теперь и счастье разлиты были в ничем не примечательных чертах лица с излишне выпуклыми надбровными дугами и недостаточно полнокровными губами.
Пушкин, что-то угадывая, не просто поднялся, а прямо-таки привскочил и с постели бросился обнимать Плетнёва.
— Экий ты, — усмехнулся Пётр Александрович. — Благодарю тебя... нет, это не то слово... Право, не знаю, заслужил ли я такое! — Бескровные губы Плетнёва дрожали, он и сутулился, и отмахивался, и отнекивался — он был необыкновенно взволнован.

В 1977 году вышел в свет роман Льва Дугина «Лицей», в котором писатель воссоздал образ А. С. Пушкина в последний год его лицейской жизни. Роман «Северная столица» служит непосредственным продолжением «Лицея». Действие новой книги происходит в 1817 – 1820 годах, вплоть до южной ссылки поэта. Пушкин предстает перед нами в окружении многочисленных друзей, в круговороте общественной жизни России начала 20-х годов XIX века, в преддверии движения декабристов.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В тихом городе Кафа мирно старился Абу Салям, хитроумный торговец пряностями. Он прожил большую жизнь, много видел, многое пережил и давно не вспоминал, кем был раньше. Но однажды Разрушительница Собраний навестила забытую богом крепость, и Абу Саляму пришлось воскресить прошлое…

«Заслон» — это роман о борьбе трудящихся Амурской области за установление Советской власти на Дальнем Востоке, о борьбе с интервентами и белогвардейцами. Перед читателем пройдут сочно написанные картины жизни офицерства и генералов, вышвырнутых революцией за кордон, и полная подвигов героическая жизнь первых комсомольцев области, отдавших жизнь за Советы.

Жестокой и кровавой была борьба за Советскую власть, за новую жизнь в Адыгее. Враги революции пытались в своих целях использовать национальные, родовые, бытовые и религиозные особенности адыгейского народа, но им это не удалось. Борьба, которую Нух, Ильяс, Умар и другие адыгейцы ведут за лучшую долю для своего народа, завершается победой благодаря честной и бескорыстной помощи русских. В книге ярко показана дружба бывшего комиссара Максима Перегудова и рядового буденновца адыгейца Ильяса Теучежа.

Автобиографические записки Джеймса Пайка (1834–1837) — одни из самых интересных и читаемых из всего мемуарного наследия участников и очевидцев гражданской войны 1861–1865 гг. в США. Благодаря автору мемуаров — техасскому рейнджеру, разведчику и солдату, которому самые выдающиеся генералы Севера доверяли и секретные миссии, мы имеем прекрасную возможность лучше понять и природу этой войны, а самое главное — характер живших тогда людей.
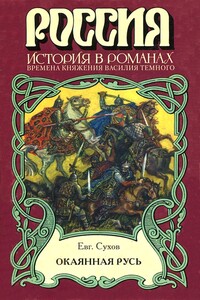
Василий Васильевич II Тёмный был внуком Дмитрия Донского и получил московский стол по завещанию своего отца. Он был вынужден бороться со своими двоюродными братьями Дмитрием Шемякой и Василием Косым, которые не хотели признавать его законных прав на великое княжение. Но даже предательски ослеплённый, он не отказался от своего предназначения, мудрым правлением завоевав симпатии многих русских людей.Новый роман молодого писателя Евгения Сухова рассказывает о великом князе Московском Василии II Васильевиче, прозванном Тёмным.

Новый исторический роман известного российского писателя Бориса Васильева переносит читателей в первую половину XIII в., когда русские князья яростно боролись между собой за первенство, били немецких рыцарей, воевали и учились ладить с татарами. Его героями являются сын Всеволода Большое Гнездо Ярослав Всеволодович, его сын Александр Ярославич, прозванный Невским за победу, одержанную на Неве над шведами, его младший брат Андрей Ярославич, после ссоры со старшим братом бежавший в Швецию, и многие другие вымышленные и исторические лица.
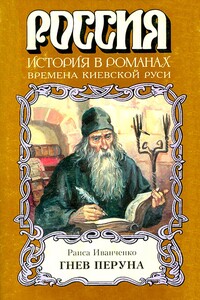
Роман Раисы Иванченко «Гнев Перуна» представляет собой широкую панораму жизни Киевской Руси в последней трети XI — начале XII века. Центральное место в романе занимает фигура легендарного летописца Нестора.

Первый роман японской серии Н. Задорнова, рассказывающей об экспедиции адмирала Е.В.Путятина к берегам Японии. Николай Задорнов досконально изучил не только историю Дальнего Востока, но и историю русского флота.