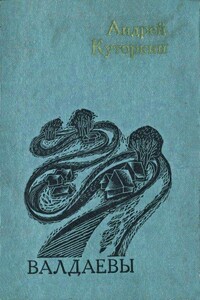Молодой человек разоткровенничался:
— Привыкла жить черт знает как!.. Сами видите, как я на ноги становлюсь. Трудно приходится!.. Помните, вы, когда были у нас, говорили, что Назаревский — большой начальник и может сделать что захочет? А ведь он ее старый знакомый! Пошла бы к нему в город, или запрягла бы лошадь да поехала и попросила, чтобы он помог. Лесу дали бы, перевезли бы... Я мог бы продать его. Деньги разве не нужны? Зерна могли бы отпустить... Так вот, не хочет идти! «Я, говорит, выпрашивать не пойду... Назаревский, говорит, мой товарищ, — он с гордостью произнес это слово, — и не пойду, говорит, я у него выпрашивать! Самим, говорит, наживать надо, как все люди». Мало ли что все люди! Может, другому и нет такого случая, а это... какое же это выпрашивание! Одно дело у соседа просить, а другое — у этого самого Назаревского! Ведь это же все казенное, государственное!
— Да-а... Поговоришь... попросишь... А там... Хрр-тьфу!
— Так ведь?
Хозяин закурил и пошел из хаты. Портной — за ним, У дверей он остановился и выпил кружку воды. Женщина вошла в дом и достала из печи воду купать ребенка. Она неприветливо посмотрела на портного.
— Всяко в жизни бывает, — вздохнул портной. — Живет человек на свете, живет...
— А потом что? — покосилась она на портного.
— Я ж говорю, все может быть... Хрр-тьфу! — Портной вышел из хаты.
— Сдружились... Два сапога пара. Бог ты мой, что это за человек! За кого я замуж пошла! — проговорила она, уронив слезу на лицо ребенка. — Как в мешке живешь с этим человеком.
— Как в мешке? — отозвался муж, показавшись на пороге. — А в чем я виноват? Не поможешь сам себе, кто тебе поможет?
— Ты когда-то тоже как будто сам себе помогал, а выходило, что Скуратовичу.
— А ты, что ли, помогла бы тогда моей семье? Языком молоть каждый умеет! А если бы ты помогала себе, а не черт знает кому, так и отец и брат твои до сих пор жили бы! Ты всему свету помогала, а сама гибла.
Такой разговор возникал в этом доме не впервые. Женщина склонилась над ребенком. Она снова плакала.
— Я думала, что ребенок этот будет счастливее меня... А ты по своей дороге хочешь его повести.
— По какой дороге? Я виноват, что дорога такая? Я стараюсь, как могу, чтобы ребенок не на пустом месте рос, чтобы у него за душой было кое-что! Я о доме старался, я и место это присмотрел! Неправда, скажешь?
Это была правда, но не так обо всем этом думала молодая женщина.
— И вот ему, ребенку этому, придется так же, как и нам, — продолжал муж,— даже хуже! Не на радость родятся нынешние дети. Наши отцы на войне страдали. Мы росли во время войны, в нужде. А этого ребенка, думаешь, что ждет? Разве спокойно на свете? Кто же не знает, что скоро снова начнутся войны? И не такие, как были. Этим детям будет еще хуже, чем нам и нашим отцам.
— Неправда! Ты сам этого хочешь.
— Нет, это ты хочешь! Покуда спокойно, можно добыть кое-что, а ты боишься такую важную шишку — Назаревского — потревожить! Какой он тебе товарищ? Он большой начальник, а ты в навозе копаешься! Когда свалится какое-нибудь несчастье на народ, ты и это вот дитя погибать будете, а он будет командовать.
— Ты забыл, какой ты его малую сестренку видел! Говорить с тобой...
Она начала ходить по комнате с ребенком на руках— не могла усидеть на месте. На душе было мрачно. Она старалась больше не говорить и успокоиться. Немало упреков пришлось ей выслушать, но к Назаревскому она так и не пошла. Ей хотелось с ним повидаться, но не по таким делам.
Так протекала жизнь в этом доме.
Года через четыре портной снова появился в здешних местах. Михал Творицкий к этому времени имел уже свои овчины. Правда, на кожух одной не хватило, и пришлось ее докупить у Степуржинского, с которым давно уже установилось молчаливое соглашение: никто никому про всякие старые дела не напоминал. Так что Степуржинский временами даже заходил к Творицкому в дом. Плечистый, широкоплечий и черноусый, он и сейчас раза два приходил в хату и наблюдал за тем, как портной шьет Михалу Творицкому кожух. «Первый кожух себе справляет», — думал он, жуя соломинку.
К этому времени хата Творицкого была уже покрыта, огорожена, а за огородом стояло новое гумно. Работая и наблюдая за Творицким и его женой, портной думал: «Не ладят между собою, плохо живут». Степуржинский как-то пожаловался портному:
— Этот Творицкий гнется, прибедняется. Поначалу думалось — может, и правда. А потом, как только хату достроил, сразу как-то и гумно поставил, и корову купил, и лошадь сменил. Откуда бы все это могло взяться, если бы он такой бедненький был? Я налоги плачу — а как же? Степуржинский, стало быть — богатей! А он, беднячок, живет себе, и никто его не трогает. И откуда что берется, никто ничего не знает. С женой ссорится, а из-за чего? Кто их разберет!..
— Правильно, братец, говорят: в чужую душу не влезешь.
Портной снова пошел по здешним местам работать. Случалось, что он у себя дома не бывал по полгода и больше. А в последний раз приходил больше года тому назад, семьи дома тоже не было, и хата стояла на замке. Такой ее застал теперь и Нестерович, а потом, по милости Наумысника, от хаты осталось пустое место. Об этом здешние жители говорили мало: за последнее время люди привыкли ко всяким неожиданностям. Ходили слухи, что портной обосновался на постоянное жительство где-то далеко, на запад отсюда, где (он всегда рассказывал) и земля лучше, и люди богаче живут, и работы больше. Так или иначе, а домой он давно не заявлялся. Никто этого не замечал. Тут совершались большие дела.