Тренинги свободы - [42]
Первые пятнадцать лет моей жизни, пока я знал по-немецки всего-навсего несколько слов, у меня, когда я слышал немецкую речь, каждый раз возникало такое чувство, будто эти люди, по какой-то неведомой причине, постоянно крайне встревожены или возмущены чем-то. Видимо, я вслушивался в другой язык с позиции звучания собственного языка. Не стану утверждать, будто этот чужой язык был лишен в моем восприятии музыкальности; однако, по сравнению с моим родным языком, его музыка была в любом случае более тяжелой и мрачной, изобиловала энергичными всплесками, окрашена была каким-то глухим рокотом. Она словно доносилась из глубины огромного сумрачного леса. Попробуй я переложить это услышанное когда-то звучание для оркестра, мне, очевидно, пришлось бы убрать из оркестра смычковые инструменты, в нем были бы клавикорды, но не было бы рояля, тон задавали бы духовые инструменты с низким звучанием и ударные, однако треугольник, например, не прозвучал бы ни разу, потому что тут, в этом языке, нет таких кратких, пронзительных звонов. В конце концов, наши уши, нос, глаза, мозг выполняют ведь очень примитивную работу: отыскивают тождества, подобия, отличия. Физические свойства другого языка я определяю, сравнивая их с физическими свойствами собственного языка. Мы живем в ужасающем рабстве. Мы прикованы цепями к такому утесу, относительно размеров и природы которого у нас имеются скорее образы, чем понятия.
Собственно говоря, в этом вопросе хорошо было бы послушать того пятнадцатилетнего мальчика, чье сознание затронуто тонким воздействием различных разновидностей расизма, — мальчика, которым я уже давным-давно не являюсь. Он сообщил бы нам, что Германия — это запах. Запах какого-то необычного дезинфицирующего средства. О немецком же языке он сказал бы, что язык этот — сплошное недовольство, сплошное возмущение. Но с тех пор как я разобрался и усвоил, по каким хитроумных правилам немцы связывают в одну фразу три слова, далеко отстоящие друг от друга, чужие друг другу, — мне все же удалось немного ослабить цепи и проникнуть хотя бы на ту нейтральную полосу, что лежит между двумя языками. Ich bin da. Itt vagyok (я тут). Один Зевес способен понять, почему у немцев три слова там, где у венгров — всего два. И если такое чудо все же произойдет и объяснение будет найдено, то кто, какой человек одинаковым образом поймет две эти фразы? Неужто я стал немцем? Если бы Гердер, или Гумбольдт, или сантехник Хомола были правы, то разве подобное маленькое чудо произошло бы с кем-нибудь?
Сначала я учился немецкому у немецких мальчишек; потом оказалось: я научился у маленьких саксов саксонскому диалекту. И наверняка мне лучше всего было бы на звучании этого языка и остановиться, — ведь немецкому языку, который сразу был бы и саксонским, и баварским, и тюрингенским, и нижнепрусским, и всеми прочими, мне так с тех пор и не удалось научиться. Говорю я на немецком, понять который, правда, можно, — только дело в том, что такого немецкого языка не существует. Всеми силами души я стремился и стремлюсь к тому, чтобы как можно ближе подойти к тому, одному, единому, но не проходит мгновения, чтобы каждым своим ударением я не отрекся от того многого, разного, из которого этот один состоит. Я не стал немцем — да на самом деле и немецкий-то не усвоил; зато я научился другому: языку нужно учиться столько раз, сколько людей встречаешь. Ибо они, эти люди, не просто связаны, через свой диалект, свой говор, со своим родным языком, но к тому же еще и говорят каждый на своем языке, привязанном к их диалекту, и говорят на нем в соответствии со своими личными качествами. Откуда опять же возникает множество недоразумений.
Однажды хозяйка моей квартиры в Восточном Берлине, фрау Херм, которая разговаривает так, словно торпедным катером командует, спросила меня: а что, все венгры говорят так же тихо и медленно, как я? Грех отрицать, говорю я действительно медленнее, чем средний венгр, так уж я устроен; но это не значит еще, что венгры вообще говорят тише и медленнее, чем немцы. Она, фрау Херм, судила о венграх по той, тихой от языковой неуверенности, немецкой речи, которую слышала от меня, а поскольку не могла соотнести этот факт с каким-либо опытом речевой коммуникации, то и не способна была точно судить, с чем связана моя негромкая и медленная манера разговора: с моими личными качествами или с некой коллективной идентичностью, о которой у нее не было ни малейшего понятия. Именно это и было в ее вопросе самое замечательное. В действительности ей ведь просто хотелось узнать, что я за человек. И все же вопрос свой она поставила таким образом, словно заведомо предполагала, что я не должен отличаться от всех прочих венгров. Это Луи Дюмон называет традиционным миросозерцанием немцев. «По сути своей я — немец, благодаря качеству своей немецкости я — человек»[31].
Анализируя немецкую истерию, Иштван Бибо со всей серьезностью предостерегает нас от увлечения всякой общественной, коллективной метафизикой, которая самому сообществу приписывает некую «душу» или «нарушение душевного равновесия»

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Петер Надаш (р. 1942) — венгерский автор, весьма известный в мире. «Конец семейного романа», как и многие другие произведения этого мастера слова, переведены на несколько европейских языков. Он поражает языковым богатством и неповторимостью стиля, смелым переплетением временных пластов — через историю одного рода вся история человечества умещается в короткую жизнь мальчика, одной из невинных жертв трагедии, постигшей Венгрию уже после Второй мировой войны. Тонкий психологизм и бескомпромиссная откровенность ставят автора в один ряд с Томасом Манном и делают Надаша писателем мировой величины.

Предлагаемый текст — о самой великой тайне: откуда я пришел и куда иду? Эссе венгерского писателя скрупулёзно передает личный опыт «ухода» за пределы жизни, в зыбкое, недостоверное пространство.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Известный киевский беллетрист и журналист Г. Н. Брейтман недаром слыл знатоком криминального сословия. Его книга «Преступный мир», изданная в самом начале XX века — настоящая небольшая энциклопедия уголовной жизни, методов «работы» преступников и воровского жаргона.

Книга о том, как всё — от живого существа до государства — приспосабливается к действительности и как эту действительность меняет. Автор показывает это на собственном примере, рассказывая об ощущениях россиянина в Болгарии. Книга получила премию на конкурсе Международного союза писателей имени Святых Кирилла и Мефодия «Славянское слово — 2017». Автор награжден медалью имени патриарха болгарской литературы Ивана Вазова.

Что же такое жизнь? Кто же такой «Дед с сигарой»? Сколько же граней имеет то или иное? Зачем нужен человек, и какие же ошибки ему нужно совершить, чтобы познать всё наземное? Сколько человеку нужно думать и задумываться, чтобы превратиться в стихию и материю? И самое главное: Зачем всё это нужно?
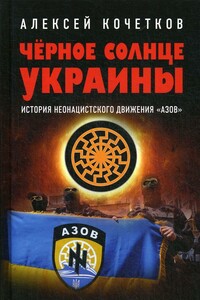
Украинский национализм имеет достаточно продолжительную историю, начавшуюся задолго до распада СССР и, тем более, задолго до Евромайдана. Однако именно после националистического переворота в Киеве, когда крайне правые украинские националисты пришли к власти и развязали войну против собственного народа, фашистская сущность этих сил проявилась во всей полноте. Нашим современникам, уже подзабывшим историю украинских пособников гитлеровской Германии, сжигавших Хатынь и заваливших трупами женщин и детей многочисленные «бабьи яры», напомнили о ней добровольческие батальоны украинских фашистов.
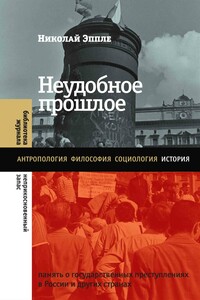
Память о преступлениях, в которых виноваты не внешние силы, а твое собственное государство, вовсе не случайно принято именовать «трудным прошлым». Признавать собственную ответственность, не перекладывая ее на внешних или внутренних врагов, время и обстоятельства, — невероятно трудно и психологически, и политически, и юридически. Только на первый взгляд кажется, что примеров такого добровольного переосмысления много, а Россия — единственная в своем роде страна, которая никак не может справиться со своим прошлым.

В центре эстонского курортного города Пярну на гранитном постаменте установлен бронзовый барельеф с изображением солдата в форме эстонского легиона СС с автоматом, ствол которого направлен на восток. На постаменте надпись: «Всем эстонским воинам, павшим во 2-й Освободительной войне за Родину и свободную Европу в 1940–1945 годах». Это памятник эстонцам, воевавшим во Второй мировой войне на стороне нацистской Германии.