Тост - [2]
— В ресторан?.. — с надеждой спросил Курочкин.
— Балда! — возмутился Силаев. — На какие ж это деньги?.. Нет, культурные люди в плацкартах от скуки читают что–нибудь эдакое: газетку там или «СПИД-инфо». А у меня в сумке только одна книжка — «Хрестоматия» какая–то. Я её у кума для дочки своей взял, кум эту книжку под сковородку подкладывал. Пусть, думаю, Олька попробует, почитает маленько. Вот я и открыл эту книженцию и, как говорится, погрузился. И даже какой–никакой кайф пошёл по жилам. И что же вы думаете? Бац! на ближайшей остановке подсаживаются ко мне попутчики: рыхлая тётка какая–то и с нею внучка. Знаете, есть такие пассажиры, которые садятся в поезд только затем, чтобы жрать. Вот и эта: примостилась напротив меня, водрузила себе на колени внучку, и давай они на пару наворачивать за обе щеки! Тут у меня у самого в животе трескотня, а она развернула свои свёртки и — как свинья, ей–богу… И харчи у неё вонючие какие–то, честное слово. Ощущение такое, что три дня она в дорогу готовилась, а холодильника дома нету… Жуткая баба! А внучка под стать ей: диатезная, сопливая, возле рта заеды, прямо язвы уже…
— Ну да, хуже всего, когда дети едут, — согласился четвёртый их товарищ, молчавший доселе Николай Липягин, художник местного клуба. — Вечно они — то какать, то писять, то плачут, то смеются…
— Но самое ужасное, что бабища эта напоследок решила воблы, бля, откушать! Где уже ей сообразить, что в дороге оно самое последнее дело: водой потом обопьёшься, как верблюд… Стала она рвать эту рыбу, кишки на газетку складывать, шехуя в разные стороны летит, вонь стоит ужасная, мухи со всего вагона слетелись и на лету дохнут. А она знай себе наяривает, плавничок оторвёт и сосёт его, причмокивает…
— Кошмар! — поёжился Липягин.
— А мне–то каково! Ты, тётка, глянь на меня, Христа ради, внимательнее: я ж «Хрестоматию» открыл! Когда такое было?! Сижу, Анну Ахматову, можно сказать, читаю, а тут вдруг солёная рыба какая–то, и мухи кругом жужжат, и воняет ужасно. Вот и судите: как хорошо было бы, если бы без баб ехать…
Выпили ещё по одной, закурили.
— У меня похожий случай был, — сказал Курочкин. — Тоже за здорово живёшь в душу наплевали, и как будто так и надо. Получил однажды я зарплату. Сами понимаете, случай это из ряда вон, праздник великий. Побежал я в магазин, хотел сыру купить. Уж больно Любаня моя сыр уважает… Вхожу. Стоит продавщица. Наглая, неряшливая…
— Жуткая баба! — согласился Силаев.
— Я ей говорю: «Четыреста». По–русски ведь говорю, не по–турецки. Она взвешивает. Смотрит на весы и говорит: «А триста — мало?» Ну, кусок ей такой подвернулся, ей резать неохота было. «Мало», — говорю. Она смотрит на меня, как на острицу какую, честное слово, и берёт новый кусок, взвешивает. «А семьсот, — говорит, — много?» Понимаете, тут каждая копейка на учёте, неизвестно, когда теперь зарплата будет, а эта стерьвь измывается. «А семьсот, — отвечаю, — много». Что тут началось! Крик, визг! «Вам, — говорит, — мужчина, не угодишь!» Представляете? Я же ещё и виноват! Прихожу домой, настроение, конечно, уже не то. Кидаю жене сыр этот вонючий… Нет, все зло в этом мире от них, от баб!
Помолчали, выкурили ещё по сигарете, налили по новой. Потом заговорил Николай Липягин.
— И всё–таки, как хотите, тут я с вами не совсем согласен. Без женщин всё равно никуда. Потому что мужик без женщины — что дитё малое. Нужны мы друг другу, так уж устроен свет…
— Ну, ты скажешь, — засомневался Курочкин. — Иногда оно, конечно, и не помешает, но чтоб так вот глобально рассуждать…
— Да ты, Пашка, лучше послушай, — нетерпеливо перебил его Николай. — Однажды с моим дружком закадычным такой случай приключился. Остался он без жены. Не навсегда, конечно. Баба у него на неделю к родичам укатила, а его попросила шугануть в огороде колорадского жука. Картошку они каждый год сажают, а от жука совсем житья не стало. Вот и решил мужик по быстрому управиться. Пошёл в огород, налил в ведро воды, достал ампулу с «Децисом», стал её ломать — никак не поддаётся. Чуть сильнее надавил — ампула сломалась, и мужик поранился стеклом. Внимания на это не обратил, развёл в ведре отраву, веник туда окунул и потом давай им размахивать, брызгать на ботву. Что–то, конечно, и на него самого попало. Но он, повторяю, внимания на это не обратил. В полчаса управился и пошёл домой.
— Вот видишь, — подал голос Силаев, — а жена, небось, полдня возилась бы.
— Слушай дальше, — продолжал Липягин. — На следующее утро просыпаюсь — бог мой! Весь в пятнах, живот чешется, на затылке опухло, и что–то там наподобие виноградной грозди прощупывается.
— Так это ты про себя, что ли? — удивился Егорыч.
— Нет, про друга моего. Да это и неважно, слушайте дальше. Стал он, значит, анализировать: откуда такая напасть? Перебрал продукты в холодильнике. Все импортные, наших теперь нету, и могли они, разумеется, вызвать аллергию — но раньше ведь такого не наблюдалось!.. И вспомнил он, как порезался ампулой из–под «Дециса» и как потом брызгал на себя этой отравой. Разделся он, глянул в зеркало — кошмар! Пятна на животе, на ногах, на шее… Вот и помчался он к родственнику в больницу. А родич у него, надо сказать, в реанимации работает, трупы оживляет. И, значит, помочь всегда может. Но как к нему добраться? Как, то есть, в таком виде на улицу выйти? Шарахаться ведь будут… Думал он, думал и придумал. Оделся тщательно, шею шарфом замотал, на руки перчатки натянул, лицо бинтом обернул — мол, зубы болят. Очки чёрные надел и таким вот человеком–невидимкой попёрся в больницу.

Повесть Алексея Петрова «Голуби на балконе» читать легко, и это несомненное достоинство произведения, опубликованного в интернете. Возможно, этот текст не вызовет огромного потрясения. Если вы начнете его читать, то попадете в мир далеких от нас реалий. Хотя, возможно, не такой уж далекий. Даже мое поколение может вспомнить начало восьмидесятых. Только этот период для нас, пожалуй, более радужный, чем для героев повести Алексея Петрова: детство навсегда остается детством.Герои повести прощаются со студенческой юностью, сталкиваются с абсолютно «взрослыми проблемами»: поиском жилья, распределением, бюрократией.

На даче вдруг упал и умер пожилой человек. Только что спорил с соседом о том, надо ли было вводить войска в Чечню и в Афганистан или не надо. Доказывал, что надо. Мужик он деревенский, честный, переживал, что разваливается страна и армия.Почему облако?История и политика — это облако, которое сегодня есть, завтра его уже не видно, растаяло, и что было на самом деле, никтоне знает. Второй раз упоминается облако, когда главный герой говорит, что надо навести порядок в стране, и жизнь будет "как это облако над головой".Кто виноват в том, что он умер? Покойный словно наказан за свои ошибки, за излишнюю "кровожадность" и разговорчивость.Собеседники в начале рассказа говорят: война уже давно идёт и касается каждого из нас, только не каждый это понимает…

Его называют непревзойденным мелодистом, Великим Романтиком эры биг-бита. Даже его имя звучит романтично: Северин Краевский… Наверно, оно хорошо подошло бы какому-нибудь исследователю-полярнику или, скажем, поэту, воспевающему суровое величие Севера, или певцу одухотворенной красоты Балтики. Для миллионов поляков Северин Краевский- символ польской эстрады. Но когда его называют "легендой", он возражает: "Я ещё не произнёс последнего слова и не нуждаюсь в дифирамбах".— Северин — гений, — сказала о нем Марыля Родович. — Это незаурядная личность, у него нет последователей.

Понимаете, в чём штука: есть вещи, о которых бессмысленно говорить. Например, смысл жизни. Зачем о нём говорить? Надо прожить жизнь, оно и будет понятней.Алексей Петров пишет о любви к музыке, не ища в этом смысла. Он просто рассказывает о том, как он жил, и музыка жила с ним.

Те, кому посчастливилось прочитать книгу этого автора, изданную небольшим тиражом, узнают из эссе только новые детали, штрихи о других поездках и встречах Алексея с Польшей и поляками. Те, кто книгу его не читал, таким образом могут в краткой сжатой форме понять суть его исследований. Кроме того, эссе еще и проиллюстрировано фотографиями изысканной польской архитектуры. Удовольствие от прочтения (язык очень легкий, живой и образный, как обычно) и просмотра гарантировано.

Интересны детали и точные замечания, как всегда у Алексея Петрова: обратите внимание на описание внешности персонажей, почему-то кажется, что картинки из жизни нового Вавилона запомнятся надолго — такова манера письма автора.

Меня зовут Рада. Я всегда рада помочь, потому что я фиксер и решаю чужие проблемы. В школе фиксер – это почти священник или психоаналитик. Мэдисон Грэм нужно, чтобы я отправляла ей SMS от несуществующего канадского ухажера? Ребекка Льюис хочет, чтобы в школе прижилось ее новое имя – Бекки? Будет сделано. У меня всегда много работы по пятницам и понедельникам, когда людям нужна помощь. Но в остальные дни я обычно обедаю в полном одиночестве. Все боятся, что я раскрою их тайны. Меня уважают, но совершенно не любят. А самое ужасное, что я не могу решить собственные проблемы.

Повесть посвящена острой и актуальной теме подростковых самоубийств, волной прокатившихся по современной России. Существует ли «Синий кит» на самом деле и кого он заберет в следующий раз?.. Может быть, вашего соседа?..
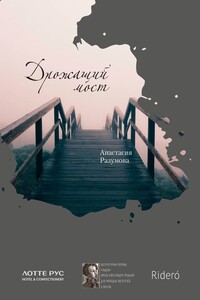
Переживший семейную трагедию мальчик становится подростком, нервным, недоверчивым, замкнутым. Родители давно превратились в холодных металлических рыбок, сестра устало смотрит с фотографии. Друг Ярослав ходит по проволоке, подражая знаменитому канатоходцу Карлу Валленде. Подружка Лилия навсегда покидает родной дом покачивающейся походкой Мэрилин Монро. Случайная знакомая Сто пятая решает стать закройщицей и вообще не в его вкусе, отчего же качается мир, когда она выбирает другого?
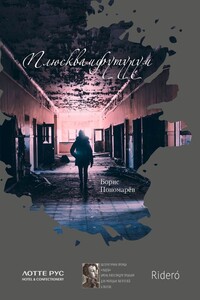
Это книга об удивительном путешествии нашего современника, оказавшегося в 2057 году. Россия будущего является зерновой сверхдержавой, противостоящей всему миру. В этом будущем герою повести предстоит железнодорожное путешествие по России в Москву. К несчастью, по меркам 2057 года гость из прошлого выглядит крайне подозрительно, и могущественные спецслужбы, оберегающие Россию от внутренних врагов, уже следуют по его пятам.
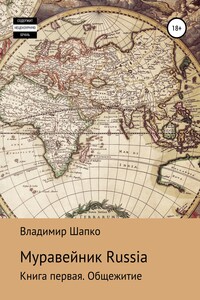
"Хроника времён неразумного социализма" – так автор обозначил жанр двух книг "Муравейник Russia". В книгах рассказывается о жизни провинциальной России. Даже московские главы прежде всего о лимитчиках, так и не прижившихся в Москве. Общежитие, барак, движущийся железнодорожный вагон, забегаловка – не только фон, место действия, но и смыслообразующие метафоры неразумно устроенной жизни. В книгах десятки, если не сотни персонажей, и каждый имеет свой характер, своё лицо. Две части хроник – "Общежитие" и "Парус" – два смысловых центра: обывательское болото и движение жизни вопреки всему.Содержит нецензурную брань.
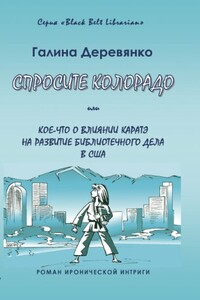
Героиня романа Инна — умная, сильная, гордая и очень самостоятельная. Она, не задумываясь, бросила разбогатевшего мужа, когда он стал ей указывать, как жить, и укатила в Америку, где устроилась в библиотеку, возглавив отдел литературы на русском языке. А еще Инна занимается каратэ. Вот только на уборку дома времени нет, на личном фронте пока не везет, здание библиотеки того и гляди обрушится на головы читателей, а вдобавок Инна стала свидетельницей смерти человека, в результате случайно завладев секретной информацией, которую покойный пытался кому-то передать и которая интересует очень и очень многих… «Книга является яркой и самобытной попыткой иронического осмысления американской действительности, воспринятой глазами россиянки.