Тонкая нить - [40]
Итак, мы уж не удивлялись, когда видели средь нас Алексея Константиныча Толстого. Правда, он прочно взял при этом манеру чеширского кота – выскажет свое фи, и поминай как звали. У меня голова кружилась, как у Алисы, от его феерических появлений и исчезновений. Думаю, он и на том свете вел себя не лучше. Вообще они с Гоголем были разные призраки. Гоголь держал марку более последовательно – молчаливый, мрачноватый, повелительный, потусторонний. Даст Воланду сто очков вперед. Алексей Константиныч был шаловливый общительный призрак, и будь мы в интерьере старого господского дома с заглохшими травой ступенями, конца бы не было уютным розыгрышам. Как открывались бы сами собой старинные фолианты, плавали по воздуху бронзовые подсвечники и быстро вращались стрелки давно не заводимых часов! Если при жизни он был в известной степени подвержен меланхолии, то после смерти старался отыграться. В силу изрядной живости характера он иной раз даже умудрялся отодвинуть инициатора этой с того света ревизии Гоголя на второй план. Ну, а Поток-богатырь вообще был фантом, и фантом премилый.
11
Наконец-то мы снова в Москве, и Селифан на козлах, и черт в кармане моем грызет гусиное перо. Проезжаем Краснохолмский мост. Бдительно заглядываю в ящик с песком, не подложил ли кто часом бомбы. По этому мосту не так давно я месяцами ходила ежедневно, любуясь на Кремль. Из бывшего нефтяного министерства в новый Минтоп, выцыганивать договора – пустые хлопоты в казенном доме. Я хочу устроить Гоголю экскурсию по казенным домам современной Москвы – пусть взглянет острым глазом. Поток-богатырь, с которым я дорогой успела побрататься, плетется позади, играя сегодня редкую роль пророка в отечестве своем.
Старый Миннефтепром, теперь Роснефть – бывший Вдовий дом на Софийской набережной. Перед окнами река и Кремль. Река властно требует кисти импрессиониста, Кремль пребывает в покое. Парадную дверь с реки открывали только для министра, но перед Гоголем она распахивается сама собой с той же легкостью, с какой вареники летели в рот Пацюку. Из старой пекарни Вдовьего дома пахнет сдобой. На крыше разоренной приютской церкви выросла береза. Про чиновников потом, одним чохом. Они во всех казенных домах России всех времен одним миром мазаны. В этом мог заново убедиться при посещении своем самый что ни на есть настоящий ревизор Гоголь.
Минтоп, советское здание запутанной планировки. Напротив торчат трубы старой ТЭЦ, напоминая что-то из Добужинского. В коридорах, при переходе из одного отсека сего непотопляемого дредноута в другой – автоматчики в камуфляже. Теперь в этих кабинетах избирательно подписываются бумаги, сулящие их получателю большие прибыли. То и могут принудить подписать с оружием в руках. Мы проходим незримо, черт отводит глаза охранникам.
Бывший Госплан СССР, теперь Минэкономики РФ. Бюро пропусков – пропуск оформляется только по заявке, вынесенной изнутри. Вертушки, помилуй бог как строго. Нам пришлось перелететь поверх турникета вместе с лошадьми нашими и въехать в бывший Госплан в бричке, подобно тому, как князь Игорь бывало въезжал верхом на сцену Большого театра, просто бери кисть да и рисуй. Но широченные коридоры и внушительных размеров лифты в здании Госплана вполне допускают такой способ передвижения.
Самое яркое впечатленье наше от бывшего Госплана – столовая, в которой можно сначала поесть, а потом заплатить. Тут уж даже мне не удалось сохранить аппетит свой в неприкосновенности до следующего случая. По уши сытый Гоголь достает из кармана царские деньги. Заморивший червячка черт вытаскивает месяц, который, стоя в очереди, мял и предъявил круглым как монетка, хотя до полнолунья еще далеко. Спасаться нам пришлось уже в бричке. Она неслась по гомерическим коридорам госплановским подобно колеснице Ахилла. А Юрий Маслюков, спутав все свои прошлые и будущие роли, возникал за каждым поворотом на пути ее, раскрылетившись растопыренными руками.
Чиновники. Они явили глазам нашим разительный контраст с кипеньем новой русской жизни за стенами казенных домов. Здесь ничто не изменилось. Чиновников ничуть не стало меньше. Напротив, популяция их, даром бременящая землю, выросла, по оценке моей на глаз, раза в полтора, хоть состав их обновился в очень и очень значительной степени. Они не сделались ничуть беднее или несчастнее. Нет, даже стали еще чище и сытее. Они по-прежнему ничем не были заняты, хоть все сидели на своих местах, положив перед собой какую-нибудь казенную бумагу. Старшие чины сохранили средневековое право подписи. Теперь, при наличии богатых фирм и богатых людей, оно приносит им даже больше доходу. Все оценено, и цены даже приведены во всеобщую известность. Средние и младшие чины препятствуют совершенью дела в тех мелочах, которые до них касаются, доколе не получат мзды, приличной их чину. Поток-богатырь, бывалый уже в разных временах российской истории, почесал в кудрях своих всей пятерней и сказал с досадой: «Вот ничему путному от царских времен сохраниться не дали, а лихое-то споро».
Вытесненные из среды чиновной, лишившиеся щедрого жалованья, так же как и неправых доходов своих, по ночам оборотнями появлялись на улицах. Привыкшие пить кровь людскую в переносном смысле теперь реализовывали проклятую склонность свою физически. Один раз в сумерках такое чудовище, которое навряд ли и раньше было кротко, судя по нравам советского чиновничества, вскочило в бричку нашу. Пахнув на нас страшно могилою, со знакомым воплем «Твоей-то шинели мне и нужно!» оно как рысь село на загривок мне, укрытой шинелью кроткого Акакия Акакьевича, и почти уж успело впиявиться красными губами своими в мою онемевшую шею. Так как русский человек в решительные минуты найдется, что сделать, не вдаваясь в дальние рассуждения, Селифан одним ударом оглушил упыря, другим же резко опустил назад верх брички нашей. Проснувшийся Поток-богатырь размахнулся могучей рукою своей и со словами «Сгинь, нечисть!» пришлепнул вурдалака на шее моей неначе комара. В честь благополучного одоления оборотня в бричке возник А. К. Толстой и прочел нам известную свою балладу на эту тему: «Когда в селах темнеет, смолкнут песни селян, и седой забелеет над болотом туман», и так далее, после чего самоликвидировался.

Автор заявил о себе как о создателе своеобычного стиля поэтической прозы, с широким гуманистическим охватом явлений сегодняшней жизни и русской истории. Наталье Арбузовой свойственны гротеск, насыщенность текста аллюзиями и доверие к интеллигентному читателю. Она в равной мере не боится высокого стиля и сленгового, резкого его снижения.

Новая книга, явствует из названья, не последняя. Наталья Арбузова оказалась автором упорным и была оценена самыми взыскательными, высокоинтеллигентными читателями. Данная книга содержит повести, рассказы и стихи. Уже зарекомендовав себя как поэт в прозе, она раскрывается перед нами как поэт-новатор, замешивающий присутствующие в преизбытке рифмы в строку точно изюм в тесто, получая таким образом дополнительную степень свободы.

«Лесков писал как есть, я же всегда привру. В семье мне всегда дают сорок процентов веры. Присочиняю более половины. Оттого и речь завожу издалека. Не взыщите», - доверительно сообщает нам автор этой книги. И мы наблюдаем, как перед нами разворачиваются «присочиненные» истории из жизни обычных людей. И уводят - в сказку? В фантасмагорию? Ответ такой: «Притихли березовые перелески, стоят, не шелохнутся. Присмирели черти под лестницей, того гляди перекрестят поганые рыла. В России живем. Святое с дьявольским сплелось - не разъять.».

Я предпринимаю трудную попытку переписать свою жизнь в другом варианте, практически при тех же стартовых условиях, но как если бы я приняла какие-то некогда мною отвергнутые предложения. История не терпит сослагательного наклонения. А я в историю не войду (не влипну). Моя жизнь, моя вольная воля. Что хочу, то и перечеркну. Не стану грести себе больше счастья, больше удачи. Даже многим поступлюсь. Но, незаметно для читателя, самую большую беду руками разведу.
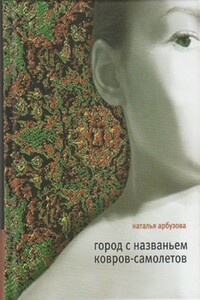
Герои Натальи Арбузовой врываются в повествование стремительно и неожиданно, и также стремительно, необратимо, непоправимо уходят: адский вихрь потерь и обретений, метаморфозы души – именно отсюда необычайно трепетное отношение писательницы к ритму как стиха, так и прозы.Она замешивает рифмы в текст, будто изюм в тесто, сбивается на стихотворную строку внутри прозаической, не боится рушить «устоявшиеся» литературные каноны, – именно вследствие их «нарушения» и рождается живое слово, необходимое чуткому и тонкому читателю.

События, описанные в повестях «Новомир» и «Звезда моя, вечерница», происходят в сёлах Южного Урала (Оренбуржья) в конце перестройки и начале пресловутых «реформ». Главный персонаж повести «Новомир» — пенсионер, всю жизнь проработавший механизатором, доживающий свой век в полузаброшенной нынешней деревне, но сумевший, несмотря ни на что, сохранить в себе то человеческое, что напрочь утрачено так называемыми новыми русскими. Героиня повести «Звезда моя, вечерница» встречает наконец того единственного, кого не теряла надежды найти, — свою любовь, опору, соратника по жизни, и это во времена очередной русской смуты, обрушения всего, чем жили и на что так надеялись… Новая книга известного российского прозаика, лауреата премий имени И.А. Бунина, Александра Невского, Д.Н. Мамина-Сибиряка и многих других.

Две женщины — наша современница студентка и советская поэтесса, их судьбы пересекаются, скрещиваться и в них, как в зеркале отражается эпоха…

Жизнь в театре и после него — в заметках, притчах и стихах. С юмором и без оного, с лирикой и почти физикой, но без всякого сожаления!

От автора… В русской литературе уже были «Записки юного врача» и «Записки врача». Это – «Записки поюзанного врача», сумевшего пережить стадии карьеры «Ничего не знаю, ничего не умею» и «Все знаю, все умею» и дожившего-таки до стадии «Что-то знаю, что-то умею и что?»…

У Славика из пригородного лесхоза появляется щенок-найдёныш. Подросток всей душой отдаётся воспитанию Жульки, не подозревая, что в её жилах течёт кровь древнейших боевых псов. Беда, в которую попадает Славик, показывает, что Жулька унаследовала лучшие гены предков: рискуя жизнью, собака беззаветно бросается на защиту друга. Но будет ли Славик с прежней любовью относиться к своей спасительнице, видя, что после страшного боя Жулька стала инвалидом?

История подростка Ромы, который ходит в обычную школу, живет, кажется, обычной жизнью: прогуливает уроки, забирает младшую сестренку из детского сада, влюбляется в новенькую одноклассницу… Однако у Ромы есть свои большие секреты, о которых никто не должен знать.

Один из главных «героев» романа — время. Оно властно меняет человеческие судьбы и названия улиц, перелистывая поколения, словно страницы книги. Время своенравно распоряжается судьбой главной героини, Ирины. Родила двоих детей, но вырастила и воспитала троих. Кристально честный человек, она едва не попадает в тюрьму… Когда после войны Ирина возвращается в родной город, он предстает таким же израненным, как ее собственная жизнь. Дети взрослеют и уже не помнят того, что знает и помнит она. Или не хотят помнить? — Но это означает, что внуки никогда не узнают о прошлом: оно ускользает, не оставляя следа в реальности, однако продолжает жить в памяти, снах и разговорах с теми, которых больше нет.

Роман «Жили-были старик со старухой», по точному слову Майи Кучерской, — повествование о судьбе семьи староверов, заброшенных в начале прошлого века в Остзейский край, там осевших, переживших у синего моря войны, разорение, потери и все-таки выживших, спасенных собственной верностью самым простым, но главным ценностям. «…Эта история захватывает с первой страницы и не отпускает до конца романа. Живые, порой комичные, порой трагические типажи, „вкусный“ говор, забавные и точные „семейные словечки“, трогательная любовь и великое русское терпение — все это сразу берет за душу.

Роман «Время обнимать» – увлекательная семейная сага, в которой есть все, что так нравится читателю: сложные судьбы, страсти, разлуки, измены, трагическая слепота родных людей и их внезапные прозрения… Но не только! Это еще и философская драма о том, какова цена жизни и смерти, как настигает и убивает прошлое, недаром в названии – слова из Книги Екклесиаста. Это повествование – гимн семье: объятиям, сантиментам, милым пустякам жизни и преданной взаимной любви, ее единственной нерушимой основе. С мягкой иронией автор рассказывает о нескольких поколениях питерской интеллигенции, их трогательной заботе о «своем круге» и непременном культурном образовании детей, любви к литературе и музыке и неприятии хамства.

Великое счастье безвестности – такое, как у Владимира Гуркина, – выпадает редкому творцу: это когда твое собственное имя прикрыто, словно обложкой, названием твоего главного произведения. «Любовь и голуби» знают все, они давно живут отдельно от своего автора – как народная песня. А ведь у Гуркина есть еще и «Плач в пригоршню»: «шедевр русской драматургии – никаких сомнений. Куда хочешь ставь – между Островским и Грибоедовым или Сухово-Кобылиным» (Владимир Меньшов). И вообще Гуркин – «подлинное драматургическое изумление, я давно ждала такого национального, народного театра, безжалостного к истории и милосердного к героям» (Людмила Петрушевская)