Тонкая нить - [39]
Полно-тко летать нам над любимой и несчастливой страной своей, подобно Фаэтону, не справившемуся с огнедышащими конями. Давно уж оторвались от земли копыта лошадей наших, и пелерина молчаливого Гоголя плывет как тучка позади красной свитки черта. А тот давно уж на козлах. На землю, и пусть колющееся в кармане моем гусиное перо из Сулы вновь станет пером сатирика, а не поэта. Сам Гоголь в том пример мне.
На обратном пути через Нижний Новгород вышел наперерез бричке нашей молодой кудрявый реформатор Борис Немцов. Посмотрел на меня пронзительным взглядом и сказал так: «Коли уж ты, старенькая голубка, припожаловала к нам в Нижегородскую губернию, так не получишь более пенсии деньгами, но будешь получать талонами и отоваривать их неукоснительно в государственных магазинах Нижегородской же губернии». Черт из кармана моего шепнул явственно: «Не вздумай, мать моя, согласиться. На нижегородском базаре вдвое дешевле». Я, проигнорировав то обстоятельство, что походя стала чертовой матерью и того гляди русский человек ко мне кого-нибудь пошлет, отвечала поспешно: «Благодарю, но я к Московской губернии приписана». Реформатор расщедрился: «Можно и переоформить», – но я покачала головой, как настропалил меня черт: «Спасибо, нет». Кудряш поджал губы и ответил совсем уж по-нашему, по-орловскому: «Была бы честь предложена, а от убытку бог избавил». Потом встряхнулся, вошел в новую роль и прицепился к бричке нашей: «Что, иномарка? Сменить, пересесть!» Тут поднялся с походного ложа своего Поток-богатырь и дал отлуп реформатору: «Ты к нашей-то телеге своих лошадей не припрягай. Гляди, осерчаю! Ишь выискался, из молодых, да ранний. А это ты видел?» Какой жест он далее изобразил, мы, право, не видали, хоть и был он сложен из десницы богатырской. Справедливости ради следует сказать, что кудряша убрали раньше, чем я успела записать наши достовернейшие приключенья, а ругать уже побитого нехорошо. Но уж пусть остается так как есть, карте место.
На нашей перебранке в Нижнем дело не кончилось. До Москвы не доехали, как явился еще один птенец гнезда ельцинского, тоже из молодых, да ранний. Он потерся рыжим котом по имени Чубайс об ноги мои и замурлыкал: «Всё путем, всё поделим согласно предложенью господина Шарикова Полиграфа Полиграфыча, а тебе мяучер». Поток-богатырь топнул богатырской ногой, аж высек искры из щебня, коим подсыпали вечно ремонтируемое шоссе, и сказал гневно: «Кабы раньше попался нам эдакий шут, в триста кун заплатил бы он виру. Да этот твой лягушиный мяучер вроде того ордена, что все равно получишь, хочешь жни, а хочешь куй». Чтоб не иметь дела с богатырем нашим, Рыжий прикинулся мертвым, неначе кот Мурлыка у Василия Андреича Жуковского, и повис вниз головой, зацепившись задними лапами за полосатый въездной шлагбаум у заставы. Что мышей сбежалось кота хоронить! Пустились в пляс, как в «Щелкунчике», и запели тоненькими голосами:
Что касается меня, то я сыграла в этой пиесе роль старой мыши Степаниды. Прежде всего я отловила в толпе своих семерых мышенят внуков, увела их к автобусной остановке и отправила по кольцевой дороге в Зеленоград. После чего вернулась и объяснила напрасно радующимся мышам, что Мурлыка, во-первых, повешен не за шею, а за ноги. Во-вторых, повешен уже не впервой и до се жив. Тут рыжий наш Мурлыка вскочил на все четыре мягкие лапы, фыркнул и похватал близстоящих мышей раньше, чем те успели взять в толк происходящее.
Алексей Константиныч Толстой не упустил случая поразмяться и поразвлечься за счет часто сменяемого министерского кабинета нашего. Он явился в стороне от возни мышиной, высокий и авантажный, и произнес с брезгливой миной:
Всех обругал и был таков. Çа ne convient pas.
Следует отметить, что Алексей Константиныч Толстой стал охотно появляться в компании нашей. Похоже, его к тому побуждали многие обстоятельства. Во-первых, он был при жизни близко знаком с Гоголем. Сдружился с ним, хоть знался и ранее, в 1850 году в доме Александры Осиповны Смирновой-Россет, в Калуге, куда был послан на полгода в качестве ревизора!!! Оба они, Гоголь и А. К., долго поиздевавшись над чем придется, могли в любую минуту вертикально взлететь к высокой поэзии. Только Гоголь не всегда разрешал себе долго оставаться в эмпиреях.
Во-вторых, наше коллективное неприятие отделения Малороссии А. К. мог понять. Его прадед с материнской стороны был Кирилл Разумовский, гвардейский полковник, возводивший на трон Екатерину Великую, он же последний гетман Украины, брат графа Алексея Григорьича Разумовского, морганатического супруга государыни Елисаветы Петровны. И жил наш калужский ревизор, выйдя в раннюю отставку, также как в детстве и юности, в своем малороссийском имении Красный Рог Черниговской губернии. При том был зверски русским человеком, читай его произведенья. В-третьих, он был не прочь анимировать порождение своей фантазии, нашего любимца – богатыря. Это было вполне в его духе. Козьму Пруткова он со товарищи наделил и портретом, и родственниками, и орденами. И нынешние наши проромановские настроенья ему, по иным догадкам и намекам сыну императора Николая Павловича, весьма с предполагаемым отцом схожему, любимому, к цесаревичу-наследнику с детства приближенному и многими перекрестными линиями с домом Романовых связанному, были милы. Не исключено также, что мои десятилетиями длившиеся учрежденческие муки по сходству несчастья вызвали с того света его, деятельного спирита, и в штатском и в военном мундире равно томившегося. Вообще ему улыбалась любая авантюра, в том числе и наша скачка с препятствиями. Когда-то они с Алексеем Бобринским раздобылись в Туле сорока ружьями и под флагом петербургского яхт-клуба снарядились вести партизанскую войну на море, в шхерах – английские корабли, числом шесть, стояли у Кронштадта. Уж потом попали они оба на фронт под Одессу, и прямехонько в тифозный барак, Бобринский первый. Выжили, донесения же о состоянии здоровья А. К. шли к государю императору ежедневно, по высочайшему повеленью.

Автор заявил о себе как о создателе своеобычного стиля поэтической прозы, с широким гуманистическим охватом явлений сегодняшней жизни и русской истории. Наталье Арбузовой свойственны гротеск, насыщенность текста аллюзиями и доверие к интеллигентному читателю. Она в равной мере не боится высокого стиля и сленгового, резкого его снижения.

Новая книга, явствует из названья, не последняя. Наталья Арбузова оказалась автором упорным и была оценена самыми взыскательными, высокоинтеллигентными читателями. Данная книга содержит повести, рассказы и стихи. Уже зарекомендовав себя как поэт в прозе, она раскрывается перед нами как поэт-новатор, замешивающий присутствующие в преизбытке рифмы в строку точно изюм в тесто, получая таким образом дополнительную степень свободы.

«Лесков писал как есть, я же всегда привру. В семье мне всегда дают сорок процентов веры. Присочиняю более половины. Оттого и речь завожу издалека. Не взыщите», - доверительно сообщает нам автор этой книги. И мы наблюдаем, как перед нами разворачиваются «присочиненные» истории из жизни обычных людей. И уводят - в сказку? В фантасмагорию? Ответ такой: «Притихли березовые перелески, стоят, не шелохнутся. Присмирели черти под лестницей, того гляди перекрестят поганые рыла. В России живем. Святое с дьявольским сплелось - не разъять.».

Я предпринимаю трудную попытку переписать свою жизнь в другом варианте, практически при тех же стартовых условиях, но как если бы я приняла какие-то некогда мною отвергнутые предложения. История не терпит сослагательного наклонения. А я в историю не войду (не влипну). Моя жизнь, моя вольная воля. Что хочу, то и перечеркну. Не стану грести себе больше счастья, больше удачи. Даже многим поступлюсь. Но, незаметно для читателя, самую большую беду руками разведу.
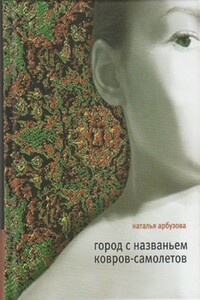
Герои Натальи Арбузовой врываются в повествование стремительно и неожиданно, и также стремительно, необратимо, непоправимо уходят: адский вихрь потерь и обретений, метаморфозы души – именно отсюда необычайно трепетное отношение писательницы к ритму как стиха, так и прозы.Она замешивает рифмы в текст, будто изюм в тесто, сбивается на стихотворную строку внутри прозаической, не боится рушить «устоявшиеся» литературные каноны, – именно вследствие их «нарушения» и рождается живое слово, необходимое чуткому и тонкому читателю.

От автора… В русской литературе уже были «Записки юного врача» и «Записки врача». Это – «Записки поюзанного врача», сумевшего пережить стадии карьеры «Ничего не знаю, ничего не умею» и «Все знаю, все умею» и дожившего-таки до стадии «Что-то знаю, что-то умею и что?»…

У Славика из пригородного лесхоза появляется щенок-найдёныш. Подросток всей душой отдаётся воспитанию Жульки, не подозревая, что в её жилах течёт кровь древнейших боевых псов. Беда, в которую попадает Славик, показывает, что Жулька унаследовала лучшие гены предков: рискуя жизнью, собака беззаветно бросается на защиту друга. Но будет ли Славик с прежней любовью относиться к своей спасительнице, видя, что после страшного боя Жулька стала инвалидом?

В России быть геем — уже само по себе приговор. Быть подростком-геем — значит стать объектом жесткой травли и, возможно, даже подвергнуть себя реальной опасности. А потому ты вынужден жить в постоянном страхе, прекрасно осознавая, что тебя ждет в случае разоблачения. Однако для каждого такого подростка рано или поздно наступает время, когда ему приходится быть смелым, чтобы отстоять свое право на существование…

История подростка Ромы, который ходит в обычную школу, живет, кажется, обычной жизнью: прогуливает уроки, забирает младшую сестренку из детского сада, влюбляется в новенькую одноклассницу… Однако у Ромы есть свои большие секреты, о которых никто не должен знать.

Эрик Стоун в 14 лет хладнокровно застрелил собственного отца. Но не стоит поспешно нарекать его монстром и психопатом, потому что у детей всегда есть причины для жестокости, даже если взрослые их не видят или не хотят видеть. У Эрика такая причина тоже была. Это история о «невидимых» детях — жертвах домашнего насилия. О детях, которые чаще всего молчат, потому что большинство из нас не желает слышать. Это история о разбитом детстве, осколки которого невозможно собрать, даже спустя много лет…

Строгая школьная дисциплина, райский остров в постапокалиптическом мире, представления о жизни после смерти, поезд, способный доставить вас в любую точку мира за считанные секунды, вполне безобидный с виду отбеливатель, сборник рассказов теряющей популярность писательницы — на самом деле всё это совсем не то, чем кажется на первый взгляд…

Один из главных «героев» романа — время. Оно властно меняет человеческие судьбы и названия улиц, перелистывая поколения, словно страницы книги. Время своенравно распоряжается судьбой главной героини, Ирины. Родила двоих детей, но вырастила и воспитала троих. Кристально честный человек, она едва не попадает в тюрьму… Когда после войны Ирина возвращается в родной город, он предстает таким же израненным, как ее собственная жизнь. Дети взрослеют и уже не помнят того, что знает и помнит она. Или не хотят помнить? — Но это означает, что внуки никогда не узнают о прошлом: оно ускользает, не оставляя следа в реальности, однако продолжает жить в памяти, снах и разговорах с теми, которых больше нет.

Роман «Жили-были старик со старухой», по точному слову Майи Кучерской, — повествование о судьбе семьи староверов, заброшенных в начале прошлого века в Остзейский край, там осевших, переживших у синего моря войны, разорение, потери и все-таки выживших, спасенных собственной верностью самым простым, но главным ценностям. «…Эта история захватывает с первой страницы и не отпускает до конца романа. Живые, порой комичные, порой трагические типажи, „вкусный“ говор, забавные и точные „семейные словечки“, трогательная любовь и великое русское терпение — все это сразу берет за душу.

Роман «Время обнимать» – увлекательная семейная сага, в которой есть все, что так нравится читателю: сложные судьбы, страсти, разлуки, измены, трагическая слепота родных людей и их внезапные прозрения… Но не только! Это еще и философская драма о том, какова цена жизни и смерти, как настигает и убивает прошлое, недаром в названии – слова из Книги Екклесиаста. Это повествование – гимн семье: объятиям, сантиментам, милым пустякам жизни и преданной взаимной любви, ее единственной нерушимой основе. С мягкой иронией автор рассказывает о нескольких поколениях питерской интеллигенции, их трогательной заботе о «своем круге» и непременном культурном образовании детей, любви к литературе и музыке и неприятии хамства.

Великое счастье безвестности – такое, как у Владимира Гуркина, – выпадает редкому творцу: это когда твое собственное имя прикрыто, словно обложкой, названием твоего главного произведения. «Любовь и голуби» знают все, они давно живут отдельно от своего автора – как народная песня. А ведь у Гуркина есть еще и «Плач в пригоршню»: «шедевр русской драматургии – никаких сомнений. Куда хочешь ставь – между Островским и Грибоедовым или Сухово-Кобылиным» (Владимир Меньшов). И вообще Гуркин – «подлинное драматургическое изумление, я давно ждала такого национального, народного театра, безжалостного к истории и милосердного к героям» (Людмила Петрушевская)