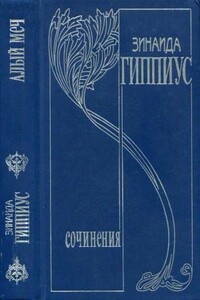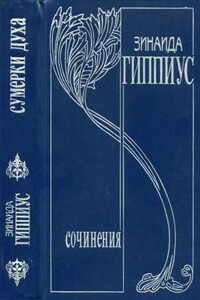А на мой взгляд, именно венский-то стул и есть настоящее место Л. Андреева, на нем он всегда сидел, значит, и падения тут пока нету. Оно – мираж, как миражем был королевский его трон.
Передо мной только что написанная большая вещь Л. Андреева, первый роман – «Сашка Жегулев» (Альманах «Шиповника», кн. 16). О романе, чуть не до выхода его, уже говорили; по старой памяти мелкие журналисты лепетали что-то смутное, полувосторженное, полуглубокомысленное. Это, мол, «сделает эпоху… Или не сделает?», «Л. Андреев возвращается к реализму… Или не возвращается?»
Я бы сказал просто, что в «Сашке» ниоткуда Л. Андреев не возвращается и никуда не идет, а как сидел, так и сидит на прежнем стуле. Падения нет, но нет и подъема. Что же, скрывать не хочу: никуда не идти, не двинуться с места в продолжение многих лет – для писателя дело плохое; не идти вперед – уже почти значит идти назад. Мера ли дарования писателя исполнилась, или опять злая судьба виновата, кинувшая ему поперек дороги глупую толпу, глупую славу, – не разберешь.
Роман Л. Андреева – длинное повествование о гимназисте-экспроприаторе («пошел в разбойники») и написано оно сплошь в приподнятом тоне, что под конец делается весьма нестерпимо. Торжественность языка кое-где, к моему изумлению, напоминает «Навьи чары» Сологуба, и это странное подражание, при отсутствии стиля, почти комично. Первая, коротенькая, глава «Золотая чаша» уже дает полную картину этой бессильной, надрывной торжественности: «Жаждет любовь утоления, ищут слезы светлых слез… трепещет всякий дух живой, и чистые сердцем идут на заклание. Так было и с Сашей Погодиным, юношею красивым и чистым; избрала его жизнь на утоление страстей и мук своих, открыла ему сердце для вещих зовов… и жертвенной кровью его наполнила золотую чашу. Печальный и нежный, любимый всеми за красоту лица… был испит он до дна души своей… И был он похоронен со злодеями и убийцами» и т. д. и т. д. Л. Андреев хочет нарисовать образ «чистого юноши», «обреченного», «жертву, идущую (или ведомую?) на заклание, и рядом образ его матери, „вечной матери“, „великого страдания“». Как все излюбленные герои Л. Андреева, юноша этот роковым образом глуп. При всей внимательности, при всем добром желании я не мог понять, ни для чего, ни почему, ни отчего, ни зачем этот чистый юноша пошел громить винные лавки. Мало объяснений дает и Колесников, другой герой, тот, который как будто соблазняет Сашу идти в разбойники. Колесников тоже глуп. Смутная теория его такова: 1) убей, 2) непременно неповинного, 3) мучайся, 4) земля потрясется, 5) совесть народная проснется, 6) неизвестно, но, кажется, всеобщая гибель. Вряд ли это убедительно и соблазнительно для обладающего здравым смыслом; но Саше все равно, к тому же он обреченный, да и рассуждать совершенно не может. Хочу я или не хочу, но должен сказать о Саше словами губернатора, самого умного в романе человека: «…подумать только. Хороший мальчик – и вдруг разбой, грабительство, неповинная кровь. Ну пойди там с бомбой или с браунингом, ну это делается… но… Ничего не понимаю, ничего не понимаю. Стою, как последний дурак…»
Глуповатая мать Саши, генеральша, старалась вначале «установить в жизни семьи культ красоты», «изменила облик предметов, словно надышала в них красотою», и в квартире у себя даже «нарушила древние соотношения, и там, где человек наследственно привык натыкаться на стул, оставила радостную пустоту». (До чего эта «радостная пустота» – под Сологуба!) Ничто не помогло, Саша был обречен и ушел в разбойники. Тогда мать, очевидно понимая больше читателя и умного губернатора, превратилась в «вечную мать», бросила молиться Богу, а начала молиться прямо Сашеньке: «Стала кричать и с криком молиться».
Надо предположить, что у автора были «мистические» задачи; мистикой все и должно объясняться… для него, ибо эта мистика слишком субъективная. Постороннему, каков бы он ни был, она кажется просто-напросто фальшью. Вообще Л. Андреев имеет самое ложное представление о мистике: она у него какая-то не мистическая. Точно стоит двадцать раз написать: «ужас, – ужас, – ужаснейшее, – ужасное, – кошница страданий, – мучительнейшее горе, – жертва, – о ужас, страшный предел, – голое безумие, – страшно, – холодная каменность», – написать все это подряд, на двух страницах (стр. 146 и 147), – и тотчас же подымется мистический ужас. Да ничуть не бывало! О, если бы Л. Андреев мог понять, что мистика – вовсе не это! мистика – она проста, тиха, она именно в самом простом, почти обыденном и тихом; и скорее в недоговоренности, чем в переговоренности. Когда к Свидригайлову приходит его супруга покойная и новое платье показывает, – вот это мистика, и, если хотите, ужас; но лучше бы вовсе никогда этого слова не произносить, – так оно бесполезно при глубине чувств. Я готов верить, что душа автора «Сашки» чувствует и глубину, и мистику; но, как писатель Л. Андреев тут абсолютно нем; хуже – злоязычен. Вместо огня – у него петербургская оттепель; и шум, шум, – визг полозьев по обнаженной мостовой. Если б мог понять Л. Андреев, что мистика (уж не буду говорить другого слова) – в тишине; но крайней мере перелет, передача мистической искры, зараза мистическим ощущением – всегда через тишину. Мистика – мгновенное преодоление сложностей, а не нагромождение их, бесплодно утомляющее внимание и только раздражающее ум.