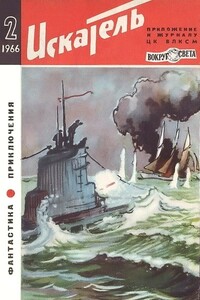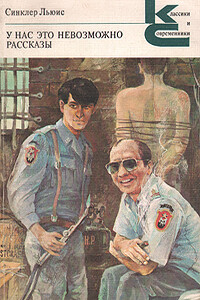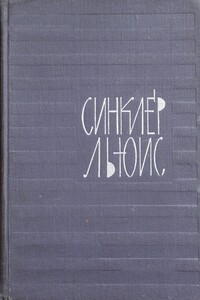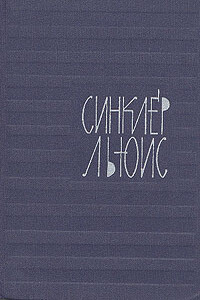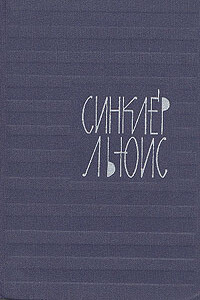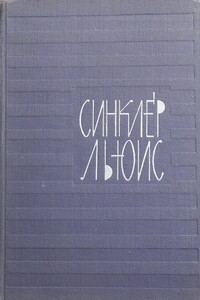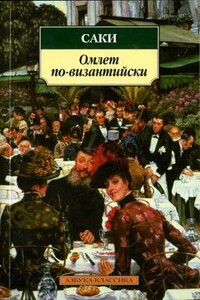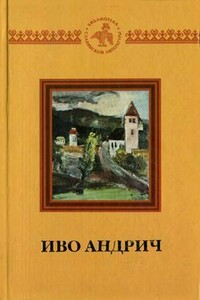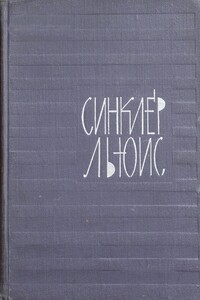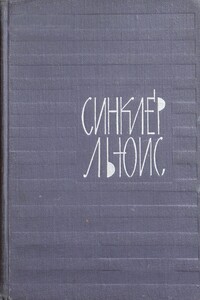Полка с книгами — Ганс Христиан Андерсен, «Дети подводного царства»,[12] «Легенды Древнего Рима»,[13] «Дэвид Копперфилд» (похищенный из собрания сочинений с нижнего этажа), «Поиски золотой девочки» Ле Гальена,[14] материнская Библия, книга о пчелах, «Гамлет» и растрепанный, зачитанный «Ким».[15]
Туалетный столик с разложенными в строгой симметрии гребешком, щеткой и крючком для застегивания ботинок. (Как многие безалаберные, склонные к авантюрам люди, Энн всегда и всюду расставляла свои вещи гораздо тщательнее, чем степенная и солидная публика, чей страх перед жизнью отлично сочетается с ленью и непреодолимым отвращением к заботам об устройстве жилья.) Думка с кружевными прошивками на скромной железной кровати — единственный признак женской сентиментальности ее владелицы. Жесткий стул с прямой спинкой. Довольно скверная репродукция с довольно скверной картины Уотта, изображающей сэра Галахеда.[16] Большое, почти всегда открытое окно. Лоскутный коврик. И покой.
Комната казалась воплощением Энн. После смерти матери никто не объяснял ей, как должна выглядеть комната благовоспитанной молодой девушки. Энн обставляла ее сама. И вот теперь она изучала комнату и самое себя как нечто чужое, непонятное и немыслимое.
Она разговаривала сама с собой.
Дело в том, что Энн Виккерс в пятнадцать лет — если не считать некоторых внешних черточек — ничем не отличалась от будущей сорокалетней Энн. Но дело также и в том, что в годы юности она еще не умела говорить сама с собой так сурово и резко, как в сорок лет. Монолог ее был лишь туманным потоком смутных чувств. Если бы эти чувства можно было облечь в слова, то речь девочки в коротеньком макинтошике, которая, до боли сжав кулаки, съежилась в комочек на стуле, звучала бы примерно так:
«Я люблю Дольфа. О господи, я правда его любила. Может, это даже не очень хорошо. Когда со мной случилась эта странная вещь, про которую папа сказал, что не надо беспокоиться, я хотела, чтоб он меня поцеловал. Ах, милый Дольф, я тебя так любила! Ты был такой чудесный, такой сильный и стройный и так красиво нырял. Но ты был злой. Я думала, что сегодня под елкой ты сказал мне правду. Я думала, что это правда!. Что я не просто сильная девчонка, которая хорошо делает гимнастику, но которую никто не полюбит.
У меня никогда не будет настоящего возлюбленного. Я, наверно, слишком отчаянная. Но я вовсе не хочу быть отчаяннбй! Конечно, я всегда командовала всеми ребятами, хотя вовсе и не хотела. Наверно, это просто само получалось… Но все остальные до того чертовски глупые!.. Господи, прости меня за то, что я сказала «чертовски», но они в самом деле чертовски глупые! ^г Щ Вот Бен, он бы меня полюбил. Он такой хороший! Я не хочу, чтобы меня любили всякие щенки! Я — это я! Я хочу увидеть мир — Спрингфилд, Джолиет, а может, даже и Чикаго!
Наверно, если я когда-нибудь полюблю такого же сильного человека, как я, он от страха просто сбежит. Нет, Дольф меня не боялся. Он меня презирал!» Вдруг ни с того ни с сего Энн взяла материнскую Библию в потертом по краям черном кожаном переплете и начала нараспев декламировать двадцать третий псалом:
«Кто взойдет на гору Господню, или кто станет на святом месте его?
Тот, у которого руки неповинны и сердце чисто, кто не клялся душою своею напрасно и не божился ложно.
Тот получит благословение от Господа и милость от бога — спасителя своего.
Таков род ищущих его, ищущих лица твоего, боже Иакова!
Поднимите, врата, верхи ваши, и поднимитесь, двери вечные, и войдет царь славы!
Кто сей царь славы? Господь крепкий и сильный, Господь сильный в брани.
Поднимите, врата, верхи ваши, и поднимитесь, двери вечные, и войдет царь славы!
Кто сей царь славы? Господь сил, он — царь славы».
Раздался стук в дверь, и озабоченный голос отца спросил: «Энн! Энни! Что с тобой? Ты заболела?»
В эту минуту Энн ненавидела всех мужчин, кроме царя славы, — ради него она готова была пожертвовать всеми самодовольно ухмыляющимися Адольфами и всеми снисходительными отцами на свете. Она пришла в ярость, но тем не менее вежливо ответила:
— Нет, нет. Прости, папочка. Я просто читала вслух — повторяла урок. Прости, пожалуйста, что я тебя разбудила. Спокойной ночи, милый.
— Ну как, весело было на вечеринке?
Энн всю жизнь суждено было лгать по-джентльменски.
— Замечательно! Спокойной ночи! — пропела она.
«Да, придется мне все это бросить. Мальчишки, которые мне нравятся, никогда меня не полюбят. А ведь они мне правда нравятся! Но мне уж придется довольствоваться тем, что я сама как мальчишка.
Но я вовсе не хочу быть мальчишкой.
Я должна что-то сделать! «Поднимитесь, двери вечные!»
Он был такой сильный и стройный!
Да ну его!
Я больше никогда не буду унижаться и не буду никого любить.
Эта картина висит криво.
А Мейбл и такие, как она! Так и вешаются на шею мальчишкам!
Я больше никогда, никогда не позволю мальчишкам смеяться надо мной за то, что я им не вру.
«Поднимитесь, о двери!» Я ложусь спать!»
Хотя Энн часто встречала Адольфа в бакалейной лавке, куда он удалился в поисках отдохновения от тягот школьной жизни и науки, и хотя наступил период, когда их компания резко разделилась на мальчиков и девочек, Энн Виккерс уже больше не интересовалась Адольфом Клебсом.