Том 4. Карусель; Тройка, семёрка, туз…; Маршал сломанной собаки - [73]
Приглушенно я сомневаюсь. Во-первых, не все живут хреново, что несправедливо, раз у нас общая цель, раз решено вроде бы в революцию строить это будущее дело, мать его разъети, всем миром и всенародной артелью. И потом, если отвлечься от подобной вздорной несправедливости, то с чем же я прихожу в итоге не к общей цели, до нее мне уже не добраться, а с чем я подхожу к своей личной единственной смерти? С каким, ответьте мне, смыслом?
Не с вещественным к тому же, а с более, так сказать, высоким смыслом, который ты с собою унесешь неведомо куда и неведомо зачем, в отличие от телевизора прилипчивого, гнусно жужжащей стиральной машины и одеяла вот этого верблюжьего, обшитого веселенькими, пропади они пропадом, лоскутками?
Кто мне докажет, что с душою, с умом, с совестью и пользой прожил я свою трудовую жизнь? Ведь причастен я был своим согласием с ложью словесной и с молчаливым пособничеством творившемуся на глазах у меня многолетнему кровавому и лукавому злу, причастен был, но отмахивался от предостерегавшего оханья сердца. Я прислушивался не к нему, ясновидящему, но слабому, а к темным слепым умам, которые нашептывали мне сказки о вынужденности жертв и использования того оружия, которым отлично без зазрения совести владели наши беспощадные якобы враги, – оружия лжи, предательства, бесчестья, забвения семейной родственности и человеческого братства, оружия грязного попирания вековых святынь и гнусных плевков в живую воду преданий. Я прислушивался, дурак безмозглый, к темным слепым умам, соблазнившим людей сказками о близости новой жизни, и люди с холостой целеустремленностью тратили все свои рабочие и душевные силы на поддержание и развитие в себе заразы ложной веры, тратили порой безрассудно, порой корыстно, порой по-детски доверчиво и растратились вроде меня до того, что проморгали обиженно пронесшуюся мимо единственную жизнь, жизнь истинную, какой бы тяжкой и неожиданной ни была она в своих случайных выкрутасах. И все больше обдает наши бедные обманутые души по мере ее неостановимого удаления от нас ужасным холодом бессмысленного одиночества и бесконечной покинутости. Что же может быть страшней и заслуженнее такого, братцы вы мои, испытания? Я вам отвечу, но вы налейте мне еще полстакана. Еще страшнее – предсмертное прозрение, пришедшее весьма, казалось бы, просто в лике обыденного вопросика: а что, Юра, если цели-то никакой и нету? Что тогда? Я даже закричал, помню, под одеялом: это-о ка-ак не-е-ту? Баба моя, надо сказать, понимала с полуслова. Зевнула она, почесала себе ляжку и говорит: а вот так – нету, и все. Нету, Юра.
Залазь-ка ты лучше на меня, пока хоть я еще есть у тебя. И действительно, сам того как бы не сознавая, залезаешь в такие страшные минуты сомнения и испытания на бабу, забываешься на какой-то срок, с жадностью цепляясь за какую-никакую, но все ж таки жизнь, а не за пропаганду, вспыхиваешь, горишь, родименький, чудесно и незнакомо, словно в первый раз сгораешь, солнышко ты мое ясное, какая еще к черту цель мне мерещилась, пропади она пропадом, спать давай, чтобы не грызли душу сомнения, мать ее ети, вашу цель. Покидаю бабу. Хочу уснуть и не могу. Трясет меня. Страшно мне. Не укладывается никак в башке такое нелепое и чудовищное положение, когда оказывается, что цели-то впереди нет! И воз, это самое отвратительное во всей истории! Цели-то вовсе никогда и не было, то есть вообще не существовала она, как, например, Америка для Колумба поначалу или обратная сторона Луны, где наш космический корабль фотографию Ленина бросил. В ужас, в последний, в крайний ужас, иных слов для обозначения своего состояния не подберу, привело меня такое бесподобное положение. И выворачивало оно мне наизнанку душу, как понятое и прочувствованное в детстве далеком другое бесподобное положение, которое неумолимо гласило и ясно убеждало: смерть – есть. Есть! И вот теперь лечу я в бездонную пропасть обиды, унижения и оскорбления под своим верблюжьим жарким одеялом, пот с меня льет, лечу, а следом бьют меня по голове, по сердцу, по хребтине жестокие, склизкие и острые вожжи слов: цели нет, Юра… нету, Юра, цели… Юра… нету… цели… Цели… Юра… нет… нет… нет цели… Взвыть бы во весь, как сказал поэт, голос, но соседи, сволочи, только и ждут, когда слышны станут наши внутренние терзания и сомнения… Взвыть бы и выть, выть, выть, завидуя тому, что имеется у Луны обратная сторона и что Колумб за весь свой страх и риск и за чудесное неведение поимел Америку! Боже мой… Боже мой! Вы налейте мне, братцы, еще полстакана. И представьте, какую обиду чувствует всей своей душою человек, обманутый даже на каком-либо чужом незначительном и дутом предприятии. Большую обиду.
Но что должны чувствовать, скажите мне, миллионы людей, нехотя наконец признавшихся самим себе в наличии унизительного для их судеб обмана и со скрежетом зубовным, как поется в стихах Библии, с безмерной обидой во взгляде провожающих в пустоту позади себя последние частицы, последние крошки необратимого, тяжкого от постылой напраслины единственного своего времени? Что они, и мы в том числе, должны чувствовать? Сегодняшнюю пустоту души, отвечу я вам, увеличивающуюся по мере заполнения ее обидой, ибо обиды, как мне теперь кажется, это и есть страстные мысли о провалах в пустоту на путях наших жизней. В пустоту. Поэтому-то я и сужаю свою личную жизнь до того, что смело могу ее сформулировать как заполнение собою пространства, ограниченного верблюжьим одеялом, но поделенного с бабой. Выть надо, братцы, от того, от чего волки и собаки воют. Выть! А воют они не на луну, как полагают доверчивые ученые, мать ихнюю ети, нет! Они справедливо интересуются с помощью воя, есть ли у луны обратная сторона. Да – есть! Но вы возьмите тощего голодного зеленоглазого серого волка, возьмите его нежно за драные чужими клыками уши и докажите нытику ночному вразумительно наше человеческое положение насчет Луны. Он, волк, не поверит, конечно, ни одному вашему слову, на то он, собственно, и волк, но вы можете посадить его, заткнув временно глотку, чтобы выл потише, в занебесный экипаж, облететь с ним вокруг Луны, показать с некоторой язвительностью ейную изнанку, врезать можете в сердцах волку по шее и сказать: ну что ты воешь? Что ты воешь, дурак, и спать не даешь по ночам людям? Вот она гляди, дубина, и уйми свой приводящий нас в уныние вой. Цыц, одним словом! Ну и что, как вы полагаете, вам ответит волк? Он, смею вас заверить, завоет еще содержательней и безумней, поскольку ни черта не поймет. Он не поймет ни вашей логики, ни вашего метода убеждения иного существа человеческим опытом, ни совершенной техники, ни тем более умопомрачительной механики отвлечения от Земли и облета ночного светила. Единственное из всего, что достоверно поймет волк, – это то, что по мере приближения к Луне он теряет, к своему ужасу, ее последнюю сторону, ибо она становится похожей на бездыханную Землю, с которой за время вразумительного, с нашей точки зрения, полета сгинули вдруг снега, блестевшие в туманах лунной ночи, сгинули неприступные, полные восхитительных жизней зимние овчарни, сгинул шум родимого леса и пьяный запах лошади случайной – все сгинуло, нету ни речки замерзшей, ни деревянных мостков, ни деревеньки, хранящей в заснеженных утробах избушек проклятие людской ненависти, хитрости, огня и грома. Все сгинуло. Только бездыханные, запыленные, выщербленные каменными и железными дождями пространства открываются взору зеленых волчьих глаз, затравленных насильственным человеческим опытом, и, воз, истинное несчастье делает бедного волка в эти чудовищные мгновения способным на вымученные, но спасительные для его существа сравнения, и он думает, что большие и малые лунные кратеры – это следы выплаканных кем-то с безмерной высоты от скорби по утраченной зимней земле, по всему, что с нее сгинуло, следы выплаканных кем-то больших и малых слез… Печально. Весьма все печально, но не для вас, разумеется, а для волка. И вот в этот самый момент он как раз перестает выть по совершенно иной, чем вы думаете, причине. Он прекращает вой не потому, что удовлетворен знанием, снявшим с его судьбы камень мучительного сомнения в наличии у Луны стороны обратной, а от нежелания жить вообще из-за уничтожения вашей научной техникой того, что составляло необходимый смысл для его бессмысленной, на наш взгляд, жизни: зимней земной ночи, властительного одиночества в морозном забвении безлюдной степной пустыни и много чего другого ценного не для вас, а для волка. Просто не на что ему будет выть – и все. Я уж не говорю о том, что ему самому его собственный отвратительный и устрашающий ваш слух вой самозабвенно мил, и природа его – радостного и самовыразительного порядка, а не того смертельно-унылого и находящегося за границами гармонии неблагозвучия, каким вы сами его наделили. Волк, братцы вы мои, однопалатники, воет и для того, чего нам вовсе не надобно знать. Но ведь и мы, люди, позвольте заявить, живем для своего удовольствия, понимая под удовольствием саму жизнь, мы должны удовольствоваться ею со всеми ее сладостями, горечами, счастьем, утратами, с безумным смехом и душераздирающим воем, даже если ее невозможно сделать иною. И я ненавижу всех политических учителей человечества, которым наша земная жизнь показалась невыносимой, и они, чтобы не слышать воя и грохота существования, заткнули наши живые глотки кляпами надежд и вынесли нас быстрыми своими словами из света и тьмы настоящего в проклятое «светлое» будущее, где нет для нас жизни, как для волков на той стороне Луны, нет жизни для нас в будущем по одной простой причине: стараясь дожить до него, мы не живем, а обманываемся и чувствуем себя наконец такими обманутыми и такими покинутыми жизнью существами, что не остается сил для предъявления счета обманщикам за безмерность обиды и пустоту прошлого, в котором незаметно для себя мы убили и похоронили время нашей жизни. Напоследок же скажу вам то, от чего отчаиваюсь невообразимо. Если мы, соблазненные целью, убиваем и хороним в настоящем время наших жизней, то что же от нас унаследуют наши внуки, правнуки и, даст бог, более далекие родственники? Сталь? Химию? Бетон?

Главный герой повести «Николай Николаевич» – молодой московский вор-карманник, принятый на работу в научно-исследовательский институт в качестве донора спермы. Эта повесть – лирическое произведение о высокой и чистой любви, написанное на семьдесят процентов матерными словами.
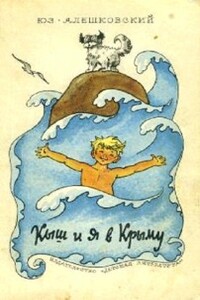
Для многих из вас герой этой книги — Алёша Сероглазов и его друг, славный и умный пёс Кыш — старые знакомые. В новой повести вы встретитесь с Алёшей и Кышем в Крыму. И, конечно же, переживёте вместе с ними много весёлых, а иногда и опасных приключений. Ведь Алёша, Кыш и их новые друзья — крымские мальчишки и девчонки — пойдут по следу «дикарей», которые ранили в горах оленёнка, устроили лесной пожар и чуть-чуть не погубили золотую рыбку. В общем, наши герои будут бороться за то, чтобы люди относились с любовью и уважением к природе, к зверью, к рыбам, к птицам и к прекрасным творениям, созданным самим человеком.

В эту книгу входят замечательная повесть "Черно-бурая лиса" и четыре рассказа известного писателя Юза Алешковского. Во всех произведениях рассказывается о ребятах, их школьных делах, дружбе, отношениях со взрослыми. Но самое главное здесь — проблема доверия к подрастающему человеку.

Роман Юза Алешковского «Рука» (1977, опубл. 1980 в США) написан в форме монолога сотрудника КГБ, мстящего за убитых большевиками родителей. Месть является единственной причиной, по которой главный герой делает карьеру в карательных органах, становится телохранителем Сталина, а кончает душевной опустошенностью...

Мне жаль, что нынешний Юз-прозаик, даже – представьте себе, романист – романист, поставим так ударение, – как-то заслонил его раннюю лирику, его старые песни. В тех первых песнях – я их все-таки больше всего люблю, может быть, потому, что иные из них рождались у меня на глазах, – что он делал в тех песнях? Он в них послал весь этот наш советский порядок на то самое. Но сделал это не как хулиган, а как поэт, у которого песни стали фольклором и потеряли автора. В позапрошлом веке было такое – «Среди долины ровныя…», «Не слышно шуму городского…», «Степь да степь кругом…».
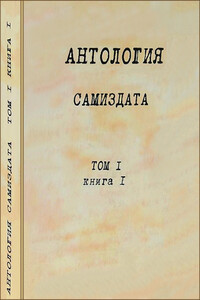
«Антология самиздата» открывает перед читателями ту часть нашего прошлого, которая никогда не была достоянием официальной истории. Тем не менее, в среде неофициальной культуры, порождением которой был Самиздат, выкристаллизовались идеи, оказавшие колоссальное влияние на ход истории, прежде всего, советской и постсоветской. Молодому поколению почти не известно происхождение современных идеологий и современной политической системы России. «Антология самиздата» позволяет в значительной мере заполнить этот пробел.В «Антологии» собраны наиболее представительные произведения, ходившие в Самиздате в 50 — 80-е годы, повлиявшие на умонастроения советской интеллигенции.

Настоящий том «Библиотеки литературы США» посвящен творчеству Стивена Крейна (1871–1900) и Фрэнка Норриса (1871–1902), писавших на рубеже XIX и XX веков. Проложив в американской прозе путь натурализму, они остались в истории литературы США крупнейшими представителями этого направления. Стивен Крейн представлен романом «Алый знак доблести» (1895), Фрэнк Норрис — романом «Спрут» (1901).

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Творчество Василия Георгиевича Федорова (1895–1959) — уникальное явление в русской эмигрантской литературе. Федорову удалось по-своему передать трагикомедию эмиграции, ее быта и бытия, при всем том, что он не юморист. Трагикомический эффект достигается тем, что очень смешно повествуется о предметах и событиях сугубо серьезных. Юмор — характерная особенность стиля писателя тонкого, умного, изящного.Судьба Федорова сложилась так, что его творчество как бы выпало из истории литературы. Пришла пора вернуть произведения талантливого русского писателя читателю.

В настоящем сборнике прозы Михая Бабича (1883—1941), классика венгерской литературы, поэта и прозаика, представлены повести и рассказы — увлекательное чтение для любителей сложной психологической прозы, поклонников фантастики и забавного юмора.

Чарлз Брокден Браун (1771-1810) – «отец» американского романа, первый серьезный прозаик Нового Света, журналист, критик, основавший журналы «Monthly Magazine», «Literary Magazine», «American Review», автор шести романов, лучшим из которых считается «Эдгар Хантли, или Мемуары сомнамбулы» («Edgar Huntly; or, Memoirs of a Sleepwalker», 1799). Детективный по сюжету, он построен как тонкий психологический этюд с нагнетанием ужаса посредством череды таинственных трагических событий, органично вплетенных в реалии современной автору Америки.

Этот человек, (Ю. Алешковский) слышащий русский язык, как Моцарт, думается, первым – и с радостью – признает первенство материала, с голоса которого он работает вот уже три с лишним десятилетия. Он пишет не «о» и не «про», ибо он пишет музыку языка, содержащую в себе все существующие «о», «про», «за», «против» и «во имя»; сказать точнее – русский язык записывает себя рукою Алешковского, направляющей безграничную энергию языка в русло внятного для читателя содержания. Алешковский первым – и с радостью – припишет языку свои зачастую ошеломляющие прозрения, которыми пестрят страницы этого собрания, и, вероятно, первым же попытается снять с языка ответственность за сумасшедшую извилистость этого русла и многочисленность его притоков.

От составителей.Мы работали над этим собранием сочинений более полугода. По времени это срок достаточно большой, но и – крайне маленький, короткий. Большой – чтобы просмотреть интернет-версии произведений Юза Алешковского, выбрать те, в которых меньше ошибок, опечаток. Чтобы привести в порядок расползающиеся при конвертации строки. Большой – для работы, по сути, косметической. И с этой работой мы справились. Хотя кое-где и не исключены какие-то мелкие «блошки».И – срок малый, чтобы сделать настоящее, академическое собрание сочинений.

«Щедрость Юзова дара выразилась в количестве написанного и сочиненного им, в количестве осчастливленных им читателей и почитателей. Благодаря известным событиям творчество Юза вышло из подполья, и к ардисовским томикам добавились скромные и роскошные издания на исторической родине. Его прочли новые поколения, и, может быть, кто-то сумел преуспеть в бизнесе, руководствуясь знаниями о механизмах, управляющих процессами, происходящими в нашем славном отечестве, почерпнутыми из его книг. А может быть, просто по прочтении – жить стало лучше, жить стало веселее».Ольга Шамборант.
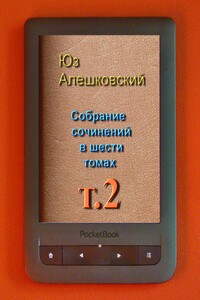
Лев Лосев: "Больше всего я люблю «Синенький скромный платочек» (1982). Помню, как начал читать в первый раз и почти сразу перешел на чтение вслух – невозможно было отказать языку, гортани в таком празднике. …И написал автору: «Я начал читать, и мне очень понравился тон и необыкновенное мастерство языка… exubОrance образов, красок, характерных выражений, которая вас опьяняет и увлекает. Много лишнего, несоразмерного, но verve и тон удивительны». Нет, это не я написал Алешковскому, это мой тезка, Лев Николаевич Толстой, написал Николаю Семеновичу Лескову.