Том 4. Карусель; Тройка, семёрка, туз…; Маршал сломанной собаки - [71]
И тут, слава богу, я почувствовал, что нечего его мне судить. Он уже судим, и сжирает его изнутри долгой предсмертной тоскою и могильным холодом казнь. И ничего я никому не скажу, чтобы не приблизить тебе, сволота, суда людей, возможного расстрела и избавления от минуток жизни, которые тягостно тянутся для тебя с утра до вечера и не дают покоя, уверен я, даже во сне, потому что ты воешь и стонешь от каких-то ночных ужасных видений.
Но когда Михей начал на следующий день, понимая, как это меня изводит, вспоминать то, чего я вам не могу больше пересказывать, с такими сводящими с ума подробностями и наблюдениями, я забарабанил в дверь и заорал:
– Сестра!.. Сестра!.. Сестра!
На крик мой в палату быстро явилась завотделением – блондинистая крыса, которая мною раньше вообще не интересовалась.
– В чем дело, больной Ланге?
– Уберите меня отсюда! – нервозно затараторил я. – Если не уберете… не знаю, что будет… вены себе перережу… вы меня лечите или с ума сводите?
– Судя по вашей реакции на соседа, лечение продвигается медленно. Больным не предоставлено право выбирать себе больничные условия. Вы не в санатории. Сейчас вам дадут успокаивающее!
– Позвоните вашему «профессору» Карпову и скажите, что у него будут со мной осложнения, – закричал я. – Вы все сволочи и садисты! Садисты и преступники!.. Фашисты! – орал я, чувствуя, как мне легчает от крика.
Крыса, не вступив со мной в спор, ушла. Вместо нее прибежала с таблетками коротко остриженная сестра с желтым лицом.
– Выпейте, Давид Александрович, – сказала она, и я, решив, что действительно не мешает успокоиться, выпил таблетку, запив ее теплой водой, и сказал, поскольку мне показалось, что в глазах сестры промелькнуло на миг человеческое сочувствие:
– Садизм – держать нормального человека рядом с этой мразью.
Михей, между прочим, валялся в одной позе: тупо глядя в потолок.
Симулировал, сволочь, отключку и изредка гундосил:
– Парашютики… гы-ы… папамасеньки люкаем… сиказвондия парашютиков…
– Что он вас съест, что ли? – пошутила сестра.
– Я его съем!.. Понятно?.. Я-я! – завопил я, не сумев удержать себя.
– Успокойтесь, прошу вас, – сказала сестра. – Лучше вам не буянить, ясно?
– Я и так в «бублике»! Мне терять нечего, – сказал я. Но внезапно успокоился. Наверно, пробрала таблетка. И тогда я подумал, что мне нужно выдержать единоборство с людоединой, а если он снова попытается изводить меня своими чудовищными байками, я ему сделаю так больно, что и подохнуть он не подохнет, и существование ежедневное проклянет. Не дам я себя изводить, не дам!
Я, почувствовав возвращение сил после обморока, подошел к Михею, применил, ни слова не говоря, один старый прием, как в разведке при взятии языка, пока Михей лежал с побагровевшим лбом, с высунутым языком и глазами, вылезшими из орбит не столько от боли, сколько от ужаса, и твердо предупредил:
– Если ты еще раз откроешь свою пасть, паскуда, получишь то же самое. Я не шучу. Довести меня до того, что я тебя прикончу, – не доведешь. Не пожалею я тебя и греха на душу не возьму. За то, что привел в сознание, спасибо. Дошло?
Михей с готовностью задергал, закивал своей башкой, одолевая удушье. Отдышался. Уткнулся лицом в подушку и тихо завыл: он плакал. Плакал, зверь, а в сердце моем начало шевелиться чувство, опередившее ехидное, мстительное злорадство, – безрассудная жалость, и жить в эти минуты от наличия его в сердце и от сознания, что обращено оно к твари, не имевшей, на мой взгляд, права на сострадание, было неимоверно горестно, тяжело и непонятно.
– Сплю я, – говорю, – чутко. Не пытайся свести ночью счеты со мной. Жизнь тебе покажется непереносимой пыткой. Все. На воды, выпей и гундось себе про папамусеньки и парашютики.
Больше Михея не было слышно. К вечеру за мной пришли санитары: бывший участковый, расстрелявший семью, и туповатый верзила. Взгляд у него был неподвижный и мутный.
– Вставай. Пошли, – сказал он.
– На расстрел, – весело добавил участковый. На эту его обычную шутку никто в психушке уже не обращал внимания.
И вот – новое свидание с Карповым. Глаза у него были воспалены то ли от бессонницы, то ли от пьяни, смотрел он не на меня, а куда-то в сторону, и мне ужасно захотелось сказать: «Ну что? Хероватенькие (плохие) у тебя дела, жандармская скотина?» Однако я промолчал, без приглашения сел на стул и с беззаботным видом стал глазеть по сторонам. На этот раз меня привели в партком психушки, завешанный, как и все парткомы, лозунгами, фотографиями членов политбюро, диаграммами насчет развития промышленности и сельского хозяйства области и заставленный гипсовыми бюстами спасителей человечества – Маркса, Энгельса, Ленина и почему-то писателя Шолохова. При этом я проникался уверенностью, что все-таки тиснул он, а не сам сочинил «Тихий Дон». Наверняка тиснул. Невозможно для всамделишного писателя, повидавшего столько, сколько повидал автор «Тихого Дона», и так замечательно описавшего все это, наблюдать, как Шолохов, с позорным и бездарным равнодушием за кровавой историей своей Родины и ее народов. Наблюдать, жрать, пить, ловить стерлядку, стричь купоны, получать премии, фиглярствовать всю жизнь, как площадная дешевка (блядь), с трибун собраний и съездов и помалкивать. Быть может, думал я, пока Карпов барабанил по столу пальцами «На пыльных тропинках далеких планет останутся наши следы…», Шолохов, подобно многим самиздатчикам, сочиняет нечто грандиозное типа «Архипелага», но только о жизни советских людей на так называемой воле, и держит до поры до времени в ящике стола трепетные, правдивые, написанные кровью листки? Воз, в какой-то миг он прекратит многолетнюю маскировку и покажет миру собственное лицо, приведя этим самым в содрогание и ужас своих всесильных покровителей из ЦК и карательных органов, и даст людям, изголодавшимся по описанию реальной житухи, жестокое, но помогающее осмысленно существовать слово? Кто знает, думал я, может, в этот самый момент принимает Шолохов в своем богатом имении на берегу многострадальной реки какого-нибудь замечательного западного деятеля типа архиепископа Кентерберийского либо Анджелы Дэвис, за освобождение которой из проклятой вашей, дорогие, тюрьмы я пять раз голосовал на заводских митингах. Принимает их он, поит водочкой, подкармливает стерлядкой, давно занесенной в Красную, маскируется, как всегда, диссидентов и нашего брата жида обвиняет во всех неудачах строительства мировой коммуны, а потом говорит Анджеле Дэвис: «Иди-ка сюда, Анджела». Заводит ее Шолохов для пущей маскировки от магнитофонов и членов семьи в сортир, не бойся, говорит, товарищ Дэвис, у меня давно от переживаний и опасной работы не действует женилка, закрывает дверь на ржавый крюк, достает из-за пазухи здоровеннейшую рукопись многолетнего своего труда под названием «Война и мир, или Зачем они сражались за социализм, партию и справедливость?» и поясняет шепотом: «Увези ты это дело в Америку, Анджела, на животе, чтоб труд всей жизни не пропал для меня и людей. Отдай его там у себя в печать, а все гонорары направь сюда, в наши тюрьмы закрытые, в лагеря трудовые и в психушки для помощи политзаключенным борцам за права человека, для писателей посаженных, поэтов, художников и прочих Иванов Денисовичей невинных. Если же обшмонают тебя сволочи на таможне, беги в аэропортовский сортир и быстро спущай роман о десяти пятилетках в унитаз. Можешь съесть его частично, чтобы он не достался живым кагэбэшникам, следящим за каждым моим шагом и отравляющим мою пищу спецтаблетками, убивающими в больших писателях талант и совесть, но не убивших их до конца. Так и передай всем простым людям доброй воли и, главное, заблуждающимся насчет смысла российской истории некоторым либеральным интеллектуалам. Отечественная словесность, дорогуша ты моя, тебя не забудет. Ступай позови сюда епископа облапошенного.

Главный герой повести «Николай Николаевич» – молодой московский вор-карманник, принятый на работу в научно-исследовательский институт в качестве донора спермы. Эта повесть – лирическое произведение о высокой и чистой любви, написанное на семьдесят процентов матерными словами.
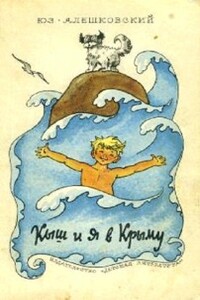
Для многих из вас герой этой книги — Алёша Сероглазов и его друг, славный и умный пёс Кыш — старые знакомые. В новой повести вы встретитесь с Алёшей и Кышем в Крыму. И, конечно же, переживёте вместе с ними много весёлых, а иногда и опасных приключений. Ведь Алёша, Кыш и их новые друзья — крымские мальчишки и девчонки — пойдут по следу «дикарей», которые ранили в горах оленёнка, устроили лесной пожар и чуть-чуть не погубили золотую рыбку. В общем, наши герои будут бороться за то, чтобы люди относились с любовью и уважением к природе, к зверью, к рыбам, к птицам и к прекрасным творениям, созданным самим человеком.

В эту книгу входят замечательная повесть "Черно-бурая лиса" и четыре рассказа известного писателя Юза Алешковского. Во всех произведениях рассказывается о ребятах, их школьных делах, дружбе, отношениях со взрослыми. Но самое главное здесь — проблема доверия к подрастающему человеку.

Роман Юза Алешковского «Рука» (1977, опубл. 1980 в США) написан в форме монолога сотрудника КГБ, мстящего за убитых большевиками родителей. Месть является единственной причиной, по которой главный герой делает карьеру в карательных органах, становится телохранителем Сталина, а кончает душевной опустошенностью...

Мне жаль, что нынешний Юз-прозаик, даже – представьте себе, романист – романист, поставим так ударение, – как-то заслонил его раннюю лирику, его старые песни. В тех первых песнях – я их все-таки больше всего люблю, может быть, потому, что иные из них рождались у меня на глазах, – что он делал в тех песнях? Он в них послал весь этот наш советский порядок на то самое. Но сделал это не как хулиган, а как поэт, у которого песни стали фольклором и потеряли автора. В позапрошлом веке было такое – «Среди долины ровныя…», «Не слышно шуму городского…», «Степь да степь кругом…».
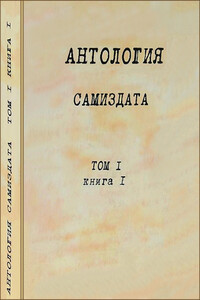
«Антология самиздата» открывает перед читателями ту часть нашего прошлого, которая никогда не была достоянием официальной истории. Тем не менее, в среде неофициальной культуры, порождением которой был Самиздат, выкристаллизовались идеи, оказавшие колоссальное влияние на ход истории, прежде всего, советской и постсоветской. Молодому поколению почти не известно происхождение современных идеологий и современной политической системы России. «Антология самиздата» позволяет в значительной мере заполнить этот пробел.В «Антологии» собраны наиболее представительные произведения, ходившие в Самиздате в 50 — 80-е годы, повлиявшие на умонастроения советской интеллигенции.

Настоящий том «Библиотеки литературы США» посвящен творчеству Стивена Крейна (1871–1900) и Фрэнка Норриса (1871–1902), писавших на рубеже XIX и XX веков. Проложив в американской прозе путь натурализму, они остались в истории литературы США крупнейшими представителями этого направления. Стивен Крейн представлен романом «Алый знак доблести» (1895), Фрэнк Норрис — романом «Спрут» (1901).

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Творчество Василия Георгиевича Федорова (1895–1959) — уникальное явление в русской эмигрантской литературе. Федорову удалось по-своему передать трагикомедию эмиграции, ее быта и бытия, при всем том, что он не юморист. Трагикомический эффект достигается тем, что очень смешно повествуется о предметах и событиях сугубо серьезных. Юмор — характерная особенность стиля писателя тонкого, умного, изящного.Судьба Федорова сложилась так, что его творчество как бы выпало из истории литературы. Пришла пора вернуть произведения талантливого русского писателя читателю.

В настоящем сборнике прозы Михая Бабича (1883—1941), классика венгерской литературы, поэта и прозаика, представлены повести и рассказы — увлекательное чтение для любителей сложной психологической прозы, поклонников фантастики и забавного юмора.

Чарлз Брокден Браун (1771-1810) – «отец» американского романа, первый серьезный прозаик Нового Света, журналист, критик, основавший журналы «Monthly Magazine», «Literary Magazine», «American Review», автор шести романов, лучшим из которых считается «Эдгар Хантли, или Мемуары сомнамбулы» («Edgar Huntly; or, Memoirs of a Sleepwalker», 1799). Детективный по сюжету, он построен как тонкий психологический этюд с нагнетанием ужаса посредством череды таинственных трагических событий, органично вплетенных в реалии современной автору Америки.

Этот человек, (Ю. Алешковский) слышащий русский язык, как Моцарт, думается, первым – и с радостью – признает первенство материала, с голоса которого он работает вот уже три с лишним десятилетия. Он пишет не «о» и не «про», ибо он пишет музыку языка, содержащую в себе все существующие «о», «про», «за», «против» и «во имя»; сказать точнее – русский язык записывает себя рукою Алешковского, направляющей безграничную энергию языка в русло внятного для читателя содержания. Алешковский первым – и с радостью – припишет языку свои зачастую ошеломляющие прозрения, которыми пестрят страницы этого собрания, и, вероятно, первым же попытается снять с языка ответственность за сумасшедшую извилистость этого русла и многочисленность его притоков.

От составителей.Мы работали над этим собранием сочинений более полугода. По времени это срок достаточно большой, но и – крайне маленький, короткий. Большой – чтобы просмотреть интернет-версии произведений Юза Алешковского, выбрать те, в которых меньше ошибок, опечаток. Чтобы привести в порядок расползающиеся при конвертации строки. Большой – для работы, по сути, косметической. И с этой работой мы справились. Хотя кое-где и не исключены какие-то мелкие «блошки».И – срок малый, чтобы сделать настоящее, академическое собрание сочинений.

«Щедрость Юзова дара выразилась в количестве написанного и сочиненного им, в количестве осчастливленных им читателей и почитателей. Благодаря известным событиям творчество Юза вышло из подполья, и к ардисовским томикам добавились скромные и роскошные издания на исторической родине. Его прочли новые поколения, и, может быть, кто-то сумел преуспеть в бизнесе, руководствуясь знаниями о механизмах, управляющих процессами, происходящими в нашем славном отечестве, почерпнутыми из его книг. А может быть, просто по прочтении – жить стало лучше, жить стало веселее».Ольга Шамборант.
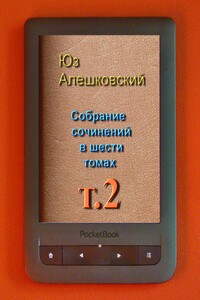
Лев Лосев: "Больше всего я люблю «Синенький скромный платочек» (1982). Помню, как начал читать в первый раз и почти сразу перешел на чтение вслух – невозможно было отказать языку, гортани в таком празднике. …И написал автору: «Я начал читать, и мне очень понравился тон и необыкновенное мастерство языка… exubОrance образов, красок, характерных выражений, которая вас опьяняет и увлекает. Много лишнего, несоразмерного, но verve и тон удивительны». Нет, это не я написал Алешковскому, это мой тезка, Лев Николаевич Толстой, написал Николаю Семеновичу Лескову.