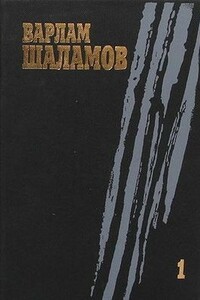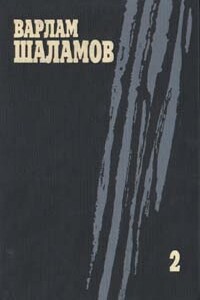Я из кустов скользну, как смелый,
Как исхудавший хищный зверь,
Я навалюсь костлявым телом
На робко скрипнувшую дверь.
Я своего дождался часа,
Я встану тенью на стене,
И запах жареного мяса
Щекочет властно ноздри мне.
Но я — не вор, я — только нищий,
В холодном бьющийся поту,
Иду как волк на запах пищи
И тычу пальцы в темноту.
Я открываю занавеску,
И синеватый лунный свет
Вдруг озаряет блеском резким
Пустой хозяйский кабинет.
Передо мной на полках книжных
Теснятся толпы старых книг,
Тех самых близких, самых ближних,
Былых товарищей моих.
Я замираю ошалело,
Не веря лунному лучу.
Я подхожу, дрожа всем телом,
И прикоснуться к ним хочу.
На свете нет блаженней мига
Дерзанья дрогнувшей руки —
Листать теплеющие книги,
Бесшумно трогать корешки.
Мелькают литеры и строчки,
Соединяясь невпопад.
Трепещут робкие лис точки
И шелестят как листопад.
Сквозь тонкий, пыльный запах тленья
Телесной сущности томов
Живая жизнь на удивленье
И умиленье всех умов.
Про что же шепчет страшный шелест
Сухих заржавленных страниц?
Про опозоренную прелесть
Любимых действующих лиц.
Что для меня своих волнений
Весьма запутанный сюжет?
Ведь я не с ним ищу сравнений,
Ему подобья вовсе нет.
Волнуют вновь чужие страсти
Сильней, чем страсть, чем жизнь своя.
И сердце рвут мое на части
Враги, герои и друзья.
И что мне голод, мрак и холод
В сравненье с этим волшебством,
Каким я снова сыт и молод
И переполнен торжеством.