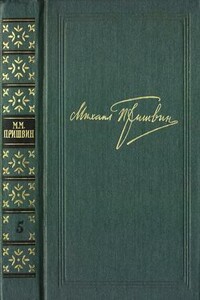И оказалось совершенно другое, потому что я никогда не бывал на вернисажах. Собралось тут народу столько, что картин почти совершенно не видно. И какой народ? И разговор не о картинах, а о разном, что вчера видели и слышали, о премьере в одном театре, в другом, о «Маскараде», о Мейерхольде, об оккультизме.
С трудом нахожу я «нашу картину», мало толпятся возле нее.
– Что это? – говорят о смертельно раненном.
– Дон Кихот!
– Лицо иконографическое.
– А какое художественное разрешение?
– Война!
И переходят к другому. Но другое тоже только на мгновенье показывается, заслонили, переходят к третьему, к четвертому. И так как-то все кругом, и кажется, что вернисаж значит водоворот.
Картина в этот водоворот не попала, завтра ее узнают, оценят другие, но в этот водоворот она не попала: она слишком серьезна.
Вышло не так, как хотелось, но вышло к хорошему. Вы меня поймете, если представите любимое произведение, как любимое существо в водовороте: сегодня оно предстало на мгновенье, удивило, но кого удивило? Предстало и погрузилось, а потом вынырнуло вверх тормашками, потом боком, потом рука, нога, нос. И главная беда в том, как хорошенько подумаешь, что не любимое это существо ныряет в водовороте, а сам ныряешь в этой праздной толпе.
Уходя с выставки, говорю знакомому, что никогда в жизни своей не приду на вернисаж.
– Придете! – спокойно говорит он.
И, должно быть, приду: затянуло меня.
На Марсовом поле вспоминаю что-то, где-то тут было похожее…
Ах да! скэтинг-ринк.
Тут было это. Скэтинг-ринк и вернисаж – это очень похоже. Там тоже шло все кругом. Толпа, залитая светом электричества, в пыли мастики, пахнущая пудрой, потом, духами, мчится очень скоро по кругу, не находя себе выхода: свыше было ведено некиим злым существам вселиться в них и низвергнуться, но выхода не было нигде, чтобы низвергнуться, и одержимые мчались по кругу, не находя себе выхода.
Так что нового, друзья мои, о вернисаже я сказать вам ничего не могу: был скэтинг-ринк, а теперь вернисаж… Но поистине ново то, что завтра я опять за черным хлебом должен выезжать в Царское Село.
I
Любимое наше, бывало, с Семеном Иванычем в железном ряду кубари гонять. Расчистим ледок, запустим кубарь и ну его коровьими хвостами нахлестывать. Самое разлюбезное дело: Семену Иванычу погреться, а нам, ребятишкам, потеха. Мы свой кубарь гоняем, а рядом дядюшка Митрофан Сергеевич живот кушаком подтянет, бородищу упрячет под воротник, поплюет, поплюет на руку – и тоже греться; за лавкой дядюшки братья Кожуховы, потом Ершовы, Абрамовы и компания – все знакомые и, посчитаться, – все родня, и все гоняют зимой кубари плетями из коровьих хвостов.
Куда все теперь девалось! В железном рядке разве десятая лавка цела, в рыбном остались только Черемухины, и то не свежей икрой и стерлядью торгуют, а только на голом соленом сазане сидят. Против других дела у Семена Иваныча были еще ничего; другие взяли в своем природном деле: кто махоркой торговал – с махоркой погиб, кто по мучной части – становился вместе с мельницами, а Семен Иваныч все перебегал с дела на дело, как еврейчики, и только в самые последние дни закручинился, – никаких товаров не стало. Прошел слух, будто немцы уже навезли в Питер свои дешевые товары, но ехать в ад кромешный за дешевыми немецкими товарами Семен Иваныч не решался и мысль эту даже отгонял от себя, как непристойную. Выехал же он в Петербург не из одной корысти и как бы вне себя и совсем неожиданно: ехал на похороны в Лебедянь, а попал в Питер за дешевыми немецкими товарами.
На Филипповках случилось, скончалась в Лебедяни его племянница Сонечка, как в телеграмме было – скоропостижно. Знал Семен Иваныч эту Сонечку девочкой, лет пятнадцать тому назад, любил с ней возиться и звал Козочкой. С тех пор не видел ее; доходили только слухи, что Козочка его теперь уж с актерами путалась и даже ездила в Париж танцевать. Почему Семену Иванычу при нынешних-то путях вздумалось ехать на похороны полузабытой родственницы – трудно сказать: то ли делать стало нечего и забродило в человеке странное, – Семена Иваныча у нас считали всегда немного странным, – то ли что в семье неладно: старший мальчик стал воровством заниматься, – или эта разруха со всех концов к тому привела, что наперекор всему новому, красному, как бы голубым знаменем раскинулось старое и захотелось по-старому, старинному свой родственный долг отдать маленькой Козочке, дочери несчастного брата своего, прогоревшего в торговле ливенскими гармониями. Как бы там ни было, а на похороны Семен Иваныч быстро собрался и выехал.
На узловой станции, где одни поезда идут в направлении Петербурга, другие в Лебедянь, во время пересадки встретилась Семену Иванычу знакомая лебедянская акушерка и бух ему прямо про Сонечку: сама покончила с собой его Козочка выстрелом в сердце.
Трех вещей на свете боялся Семен Иваныч: первое – горных пропастей, которых он, степняк, никогда не видал, но снилось ему часто, будто он подходит к пропасти и пропасть тянет его. Второй страх имел перед фокусниками, – что если бы фокусники и магнетизеры не оказались на деле, как все говорят, обманщиками, а, правда, могут это, – так вот, как подумаешь об этом, кажется, сходишь с ума, – очень страшно! А третье – самоубийство: мысль об этом, как пропасть, утягивает, и одно тут средство спасения: не думая, бежать, как от пропасти.