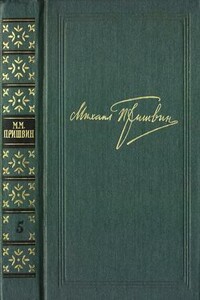– Бог сказал, вот мы исполняем и трудимся. Мы – настоящий Адам, а вы безобразите!
– И мы – Адам! – закричали малоземельные и безлошадные.
– Не шумите, – успокоил Никита второго Адама, – заповедь божия всем одна, всему Адаму со всем потомством сказал господь, а не то чтобы выделил: тебе, Иван, – на! а тебе, Семен, нет ничего. Земля вся божья!
Посмотрели искоса арендаторы на второго Адама: велик Адам, не справиться, изобьет.
– Правильно, – ответили, – ты говоришь, старик, что земля божья, ну, а как скотина, своя?
– Скотину приобрел человек.
– Так вот же, братья, бог с вами, делите землю по живым душам, оставьте только нам лишнего на скотину по одной полниве.
Согласились на этом, стали делить. Конечно, опять шум и спор. Тому недомерили, там промерили, один жалуется, что ему бугром, другой ендовой, у третьего на полосе дерник растет. Делятся и день, и два, и три делятся. И стали уж к концу подходить, вдруг откуда ни возьмись приходят барские работники.
– Вы, барские холопы, идите к своим господам.
– Господ, – отвечают, – теперь нет, теперь все граждане, и нас от них сняли, мы тоже Адам!
Приняли в часть и господских. А там приходят из города. Приплелся портной хромоногий, дворник, извозчик, человек пять сапожников и шесть кожемяк.
– Не хотим, – говорят, – кожи мять, давайте земли! И мы тоже Адам!
Делят землю на всех по живым душам, и неделю делят, и две, – все земля не дается пахать. Забурела уж и рожь, а мужики все не разделятся.
И высохла земля, и стала земля трескаться. Белым полднем покончили. И только стали было богу молиться, вдруг из куста покойником выходит Иван Шибай.
– По живым душам делите? Примите, крещеные, и мою мертвую, я тоже Адам!
И опять делить.
III
Дошло до усадьбы. Представили барину выдворительную. Он сразу выехал. Проводив навсегда хозяина, ночной сторож Петр Петров подошел к колодезю, вытянул бадью, припал к воде, долго пил, как лошадь, и остальную воду по привычке перелил в корыто лошадям, хотя ни одной лошади, ни одной коровы, даже овцы, даже курицы в усадьбе не было. Пожевал корочку, подошел к дому, поднялся по приступочкам вверх. В передней хрипло кашлянул, но никто не отозвался, не спросил, как бывало:
– Тебе что, Петр Петров?
Постоял в передней и пошел в столовую, оставляя валенками на полу огромные медвежьи следы. Столовую он много раз видел из передней, и гостиная с мягкой мебелью не удивила его, но в зале остановился и стал все разглядывать. Тут на стенах висели портреты прежних, тургеневского времени, владельцев Колодезей, на полу было разное: поломанная. мебель красного дерева, мешки с гречей, и горки ржи, и сбруя, и грабли, – чего-чего только тут не было. А в углу стояло старинное трюмо, такое высокое, такое широкое, что в нем, как в тихом озере, отражалось все, что в зале было, и за окнами зала сад, и даже неба кусочек.
Петр Петров уставился на портреты в мундирах: все они ему казались одинаково прекрасны и все на одно лицо, и лицо это одно было – царское. Досмотрев портреты до угла, где стояло большое трюмо, Петр Петров вдруг увидел, что там в углу стоит брат его Иван Петров и удивленно, разинув рот, смотрит на него. Иван Петров был точно такой же, как брат: всклокоченные, с соломинами, волосы, густая, черная, словно ветром взметенная вбок бородища, сутулый, руки висят почти до колен, и полушубченко такой же старый, платанный новыми шкурками. Не ударило в голову Петру Петрову, что брат его уже лет пять тому назад помер в Питере: стоит живой, стало быть, и живой. Петр Петров смутился не этим, а что брат его, такой нечистый, посмел забраться в хоромы.
– Ты зачем тут? – прохрипел он громко. И махнул рукой в сторону людской. – Уходи, уходи!
Иван Петров тоже рот открыл:
– Уходи, уходи!
Братья пошли в разные стороны: Петр Петров по черному, Иван Петров по парадному. В людскую с парадного было много ближе, потому в людской Петр Петров спросил Акулину и Косычей:
– А куды же брат мой, Иван Петров, прошел?
Акулина сказала:
– Перекрестись!
Косычи уши навострили.
Рассказал Петр Петров все по порядку, что ночью он под балконом на соломе дремал, а сука всю ночь кость глодала. Рано барин велел запрягать лошадь. «Я, – говорит, – бросаю вас, будь заместо хозяина». И уехал. А он, Петр Петров, напился дюже воды из бадьи и в хоромы пошел. Стал в хоромах царские портреты разглядывать, дошел до угла, а там брат. Махнул ему рукою в людскую: «Туды, туды!» И пошли: он по черному ходу, а брат по парадному.
Перепала Акулина от рассказа. Косычи же зарадовались, что вот наконец-то барина выжили. Все, кроме робкой Акулины, пошли в барский дом, будто бы поглядеть, как ходит там хозяином Иван Петров, покойник. И когда в залу пришли и показалось трюмо…
– Вот он! – сказал Петр Петров.
Смеясь, легли Косычи животами на гречу в мешках. Дивились и Косычи, дворовые люди, на барского человека, что всю жизнь свою спал под балконом ученого барина и ни разу еще не видал себя в зеркале. Живо смекнули дворовые люди свое дело: высыпали гречу на пол, набили мешки новыми, серебром отделанными уздечками, шлеями – ничего нет нынче дороже ремня! – и, взвалив мешки на плечи, садом и логом пустились к себе в Косычевку. А Петр Петров так и остался у зеркала, удивляясь все больше и больше его отражениям.