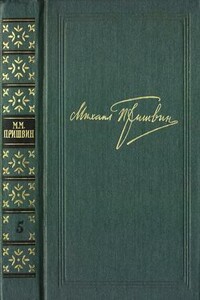И уж как все это военное тяжко давит на душу, а нет! – вырвалась душа на минутку, – этот светлый круг на снегу, похожий на скатерть-самобранку, вызывает в памяти и все другое, заученное в детстве: как на этой скатерти появилось вино, как пили вино мужики и как чьи-то руки служили мужикам и они спорили, кому живется весело, вольготно на Руси.
Чуть отдохнул па воспоминании, и опять выплывает только что пережитое военное, и по светлой полянке, где только что за счастьем шли мужики, опять выходят сибирские волки. Вдруг исчезает светлая полянка, огни прожектора внезапно загашены.
– Кажется, люди.
– Немцы?
– Какие-то люди.
В темноте впереди вспыхнул огонек, там было видно, как чья-то рука потянулась к этой дощечке, прибитой на стволе дерева, и потом сразу все загамкало по-русски. У нас опять загорелись прожекторы, двинулась машина, и теперь мы видим, как возле этой скатерти-самобранки стоят русские мужики, гамят, напрасно стараясь разобрать немецкую надпись с перстом указующим. Спорят, не зная, куда им идти, как у Некрасова, «попу, попу, попу», «купчине толстопузому», «а Пров сказал – „царю“».
Это бредут куда-то легко раненные, и с ними еще две белые собачки. Мы советуем им вернуться на более безопасную дорогу, где отступают обозы и войска, но им хочется поскорее дойти, спорят между собой, их собачки гонятся долго с лаем за нашим автомобилем.
На минуту развлекла эта встреча, но потом, когда опять все стихло, стало еще как-то неприятнее в этом лесу. Мы болтали, дремали, курили, но у каждого втайне курилась душа. При наступлении, атаке пожаром вспыхивают все эти деревянные подстройки души отдельной, перегородки; созданная временем нашего «вооруженного мира» обнаженная общая душа творит мощное дело. При отступлении каждая душа отступает отдельно, ищет себе квартирку и курится.
Немецкие разъезды, конечно, были в лесу, и возможно даже, что путь отступления нашего через лес уже отрезан. Каждый момент из-за этих серых в освещении электричества сосновых стволов могли показаться каски. И большую машину невозможно скоро повернуть на узкой лесной дороге. Два-три человека легко могли взять нас в плен.
И первый раз я почувствовал, что в плен попасться значит не меньше, чем получить пулю в свое тело.
Молодой гусар, раненный в ногу и левую руку, все обещался нам правой рукой стрелять «до последнего патрона». Какая уж там его стрельба, но если он будет стрелять, то и те будут стрелять, и плен придет уж после расстрела – нет! – плен был хуже смерти.
Слушая гусара, мы почему-то встречались глазами с пожилым инженером-полковником; думал ли он то же, что и я?
Я видел инженера и гусара в самый момент ранения: пролетело что-то и разорвалось возле костела, и оба упали. Когда перевязывали руку гусару, не шевельнулось во мне чувство сострадания, гусар был весь насыщен боем, и казалось, что он свое заслужил. Инженер был немолодой человек; когда открыли его желтую спину, на ней оказалась против легкого маленькая, но опасная ранка.
– Пустяки! – говорил он. – Я еще ничего не сделал, я только приехал. – По-детски улыбнулся. Так часто бывает, по-младенчески плачут во время перевязок, по-детски улыбаются и отвечают.
Третий наш спутник – капитан, веселый и скромный человек. Слушая гусара, он говорил нам, что вот хорошо бы на всякий случай достать револьвер. Мы предлагали капитану переложиться и достать револьвер, но он говорил: «Не стоит, револьверишко-то плохенький, ворон пугать».
Как-то само собой вышло, что все мы стали разговаривать о плене, что, по-настоящему, права сдаваться в плен военный не имеет, что тело его – как военный корабль, – в крайнем случае, командир должен его уничтожить. Поднялись споры о всяких бесчисленных случаях на практике, когда невозможно не сдаться, и о противоречиях закона. Наш капитан тогда рассказал нам, как он был несколько минут в плену и как это просто вышло.
– Еду я в лесу, – сказал капитан, – темно, холодно, и вдруг из-за деревьев стрельба. Бежит трубач, кричит: «Слезайте, убьют!» Обругал я его и еду дальше, а пули свистят, и сучки с деревьев падают. Еду я так, а из-за деревьев руки показываются, хватают мою лошадь, ведут к дереву, ну, и вот я в плену.
– Когда руки протянулись, почему же вы не ударили шашкой?
– Да как-то настроился в лесу не так, не подошло; раз, темно, мы измучены, воевать невозможно, так приготовился, чтобы ехать и не обращать внимания, пусть лают, черт с ними, – и вдруг эти руки за повод хватают, а шашка висит где-то, болтается…
– А револьвер?
– Револьверишко тоже плохенький, висит где-то на животике…
– Куда же делись солдаты?
– Митюхи мои рассыпались между деревьями, стреляют где-то, ничего не видно, не поймешь, где и кто стреляет, вокруг меня все каски – что я с ними сделаю? Ведут меня к дереву, и что-то им тут показалось в лесу – дали залп, как вскинется мой конь, я – шпоры. Лечу, за мной погоня, стрельба. Дальше, дальше, скакал, скакал. Вижу – редеет лес. «Слава богу!» – говорю себе, и – бух! – в трясину. Бился я, бился в трясине, не могу достать лошадь, промерз, оледенел. Бросил коня, пошел куда-то, и так дня три скитался в лесу. Раз как-то слышу, собачка лает – деревня. Иду я в деревню, огонек показывается, халупы, иду, стучусь в крайнюю избушку, не знаю, выйдут русские или немцы, мне все равно, мне теперь только нужен знаменатель, немец или русский, жизнь, или смерть, или плен – все равно, только чтобы знаменатель вышел. И выходит на стук знаменатель.