Том 1. Повести и рассказы 1879-1888 - [36]
Так проходил день в подследственном отделении.
«…Раз, два, три, четыре!..» — гулко раздавался по временам сильный стук. Это Яшка тревожил чуткую тишину коридора. Среди этой тишины, на фоне бесшумной, подавленной жизни, его удары, резкие, бешено-отчетливые, непокорные, составляли какой-то странный, режущий, неприятный контраст. Я вспомнил, как маленький старший съежился, заслышав эти удары. Нарушение обычного безмолвия этой скорбной обители, казавшееся даже мне, постороннему, диссонансом, должно было особенно резать ухо начальства.
Не знаю, зачем, собственно, понадобилось мне считать эти удары. Раз, два, три… около шести стук усиливался; семь, восемь, девять… стоял сплошной гул, затем на одиннадцати, редко на двенадцати, звук резко обрывался. В это мгновение у меня являлось в правой ноге мимолетное ощущение ноющей боли. Мне казалось, что Яшка прекращал свой стук именно от такой боли в ноге. Через несколько секунд раздавалось еще пять-шесть ударов, и затем в коридоре наступала напряженная тишь, или же угрюмое ворчание Якова смешивалось со скорбными выкрикиваниями еврея.
Чаще других приходилось дежурить в нашем коридоре старику надзирателю, давно, по-видимому, свыкшемуся с тюрьмой и ее обитателями. Казалось, старик обрел на этом месте то особого рода душевное равновесие, которое так облегчает жизнь и сношения с людьми во всякой профессии. Он имел вид человека, обладающего обстоятельным миросозерцанием, был философски спокоен и неизменно равнодушен, никогда не возвышал голоса, не бранил арестантов, не стеснял их без нужды.
Он был надзиратель — это было его общественное положение, налагавшее на него известные обязанности. Другие были арестанты — это опять их общественное положение, также сопряженное с обязанностями. Каждый должен исполнять свои обязанности, что значит: «Веди себя с толком, поступай благородно, то есть не попадай на замечание начальства». Таковы были основы его философии, и он сумел провести их в жизнь подведомого ему отделения. Главное нравственное правило: «не попадай на замечание» — проникало во все детали этой жизни. Сам старик Михеич двигался и действовал не торопясь, как хорошо рассчитанная машина. Я никогда не видал, чтоб он препирался с арестантом из одиночки, когда тот просился «до ветру», как это делали другие надзиратели. Он просто шел на стук и отпирал двери. Зато, если Михеич отказывал в каком-нибудь облегчении, значит, у него была резонная причина, имеющая отношение к близости начальственного ока, и отказ был всегда решительный, безапелляционный. Когда, бывало, старый Михеич сидел на окне коридора и дремал, причем из-под его папахи, вечно нахлобученной на самые брови, виднелись концы длинных усов и ястребиного носа, тихо и благосклонно клевавшего в спокойной дремоте, в коридоре подследственных воцарялась непринужденность и даже некоторая развязность, конечно, в возможных для этого места пределах. Арестанты франтовато ходили с папиросами в зубах мимо философа-начальника с очевидным знанием невозможности явиться в эдаком виде в другие часы дня. Это делало особенно драгоценной эту привилегию в данное время. Они уже сами смотрели в оба, чтобы не попасться в эдаком виде кому-нибудь из высшего тюремного начальства и не подвести старого Михеича, так как хорошо понимали, что в подобном ротозействе не заключается ни толку, ни благородства. Даже умалишенные чувствовали импонирующее влияние Михеичевой философии. Когда рулады сумасшедшего еврея, одержимого какою-то музыкальной манией, достигали чрезмерной напряженности и экспрессии, когда, казалось, его глотка скоро откажется производить какие бы то ни было звуки, а уши слушателей рисковали потерять всякую способность воспринимать их, Михеич спокойно слезал с окна, подходил к двери еврея и, стукнув связкой ключей, произносил ровным, спокойным голосом:
— Эй, ты, свиное ухо! По какой причине раскричался?
Вопрос звучал деловито, как будто вопрошавший допускал возможность существования какой-либо причины, и даже название «свиное ухо» казалось просто необидным собственным именем. Еврей смягчал экспрессию, понижал тон и издавал рулады, выражавшие очевидную готовность к компромиссу.
— Нарукавники желаешь? — спрашивал Михеич так же спокойно, и опять в вопросе слышалась возможность со стороны еврея такого неестественного желания.
— Покричи еще, — что ж, я и принесу нарукавники тебе… Это, брат, можно во всяко время… — соглашался Михеич, и рулады еврея спускались до обычного диапазона.
— Стекло-то опять зачем сожрал, а? Разве полагается тебе казенные стекла жрать? Видишь вот, вчера вставили, а ты опять слопал, свиное ухо! — говорил Михеич, выковыривая остатки дверного стекла, которое еврей действительно имел обыкновение разбивать и грызть зубами.
Урезонив еврея, Михеич снова направлялся к излюбленному месту на окне, где спина его скоро прилипала к натертому жирному пятну косяка, а нос и усы принимали обычное положение. Еврей продолжал свои рулады, возвратившись к нотам, более свойственным человеческому голосу, или начинал что-то таинственно выстукивать в стену, как бы сообщая кому-то смысл сейчас слышанных слов.
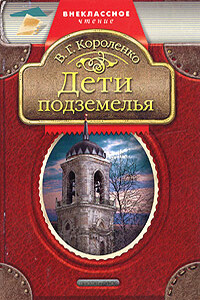
В своей повести «Дети подземелья» известный русский писатель В.Г.Короленко (1853-1921) затрагивает вечные темы дружбы, любви, добра, заставляет сопереживать, сочувствовать юным героям, их нелегкой жизни, полной лишений.Книга адресуется детям младшего и среднего школьного возраста.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
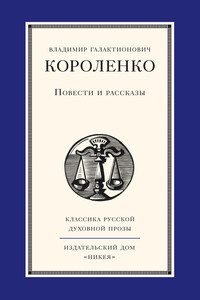
В. Г. Короленко – известный русский писатель, публицист и общественный деятель – в своих литературных произведениях глубоко исследовал человеческую душу. Понятие справедливости было главным для писателя, и его жизненная дорога стала путем правдоискателя и миротворца, который не закрывает глаза перед чужим горем. Все его герои – крестьяне или дворяне, паломники или бродяги, заключенные или их надзиратели – ищут справедливости, преодолевают себя, борются со слабостями, греховным унынием и эгоизмом («Слепой музыкант»), пытаются выжить в тяжелых условиях среди чужих им людей («Сон Макара»)

Рассказ написан в 1894–1895 годах, напечатан в первых четырех книгах журнала «Русское богатство» за 1895 год. Для первого отдельного издания, вышедшего в 1902 году, Короленко подверг рассказ значительной переработке: был дописан ряд эпизодов, введены новые персонажи, в том числе Нилов, осуществлена большая стилистическая правка; объем произведения увеличился почти вдвое. Материалом для рассказа послужили впечатления и наблюдения писателя, связанные с его поездкой летом 1893 года в Америку, на всемирную выставку в Чикаго.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

«Мы подходили к Новороссийску. Громоздились невысокие, лесистые горы; море было спокойное, а из воды, неподалеку от мола, торчали мачты потопленного командами Черноморского флота. Влево, под горою, белели дачи Геленджика…».

Из книги: Алексей Толстой «Собрание сочинений в 10 томах. Том 4» (Москва: Государственное издательство художественной литературы, 1958 г.)Комментарии Ю. Крестинского.

Немирович-Данченко Василий Иванович — известный писатель, сын малоросса и армянки. Родился в 1848 г.; детство провел в походной обстановке в Дагестане и Грузии; учился в Александровском кадетском корпусе в Москве. В конце 1860-х и начале 1870-х годов жил на побережье Белого моря и Ледовитого океана, которое описал в ряде талантливых очерков, появившихся в «Отечественных Записках» и «Вестнике Европы» и вышедших затем отдельными изданиями («За Северным полярным кругом», «Беломоры и Соловки», «У океана», «Лапландия и лапландцы», «На просторе»)

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В первый том трехтомного издания прозы и эссеистики М.А. Кузмина вошли повести и рассказы 1906–1912 гг.: «Крылья», «Приключения Эме Лебефа», «Картонный домик», «Путешествие сера Джона Фирфакса…», «Высокое искусство», «Нечаянный провиант», «Опасный страж», «Мечтатели».Издание предназначается для самого широкого круга читателей, интересующихся русской литературой Серебряного века.К сожалению, часть произведений в файле отсутствует.http://ruslit.traumlibrary.net.
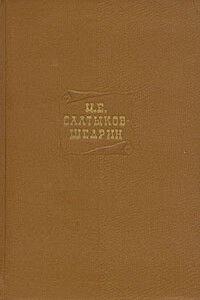
Настоящее Собрание сочинений и писем Салтыкова-Щедрина, в котором критически использованы опыт и материалы предыдущего издания, осуществляется с учетом новейших достижений советского щедриноведения. Собрание является наиболее полным из всех существующих и включает в себя все известные в настоящее время произведения писателя, как законченные, так и незавершенные.В двенадцатый том настоящего издания входят художественные произведения 1874–1880 гг., публиковавшиеся в «Отечественных записках»: «В среде умеренности и аккуратности», «Культурные люди», рассказы а очерки из «Сборника».

В том включены рассказы 1889–1903 годов: «Тени», «Река играет», «Ат-Даван», «Без языка», «Художник Алымов», «Не страшное» и др.http://ruslit.traumlibrary.net.

В том включены рассказы 1903–1915 гг. «С двух сторон», «Братья Мендель» и др., публицистические работы «Несколько мыслей о национализме», «Легенда о царе и декабристе», «Земли! Земли!», «Письма к Луначарскому» и др., большинство из которых впервые публикуются в советское время в составе собрания сочинений, а также статьи и воспоминания о писателях.http://ruslit.traumlibrary.net.
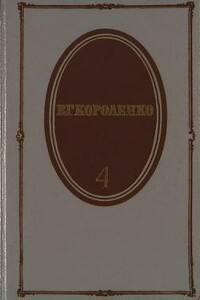
В том включены первая и вторая книги «Истории моего современника» (1853–1921), итогового произведения писателя, отразившего социально-политические и нравственные искания его поколения.http://ruslit.traumlibrary.net.

В том включены третья и четвертая книги обширного автобиографического полотна «История моего современника», в раздел «Приложения» — дополняющие его очерки, незаконченная повесть «Полоса», не вошедшие в основной текст главы, а также написанные в разное время автобиографии писателя.http://ruslit.traumlibrary.net.