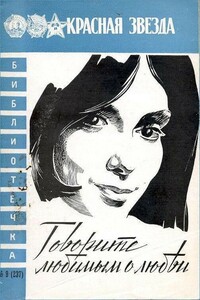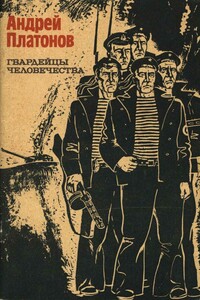***
— Что же это вы, братцы, разлеглись тут, что бараны? Жизни не жалко, что ли? — испуганно орет взводный, будя и выгоняя всех из землянки.— В гости пришли?! А ну, живо в окопы... Немец наступает!..
Был уже вечер, быстро темнело.
Где-то сбоку застучали пулеметы, и начали бухать пушки.
В воздухе загудело; первый снаряд, все заглушая страшным треском, разорвался в проволочных заграждениях, раскидав далеко вокруг комья земли.
Сердце Хомки затрепетало. Он бессознательно присел, прижался к амбразуре. «Ничего, братки, ничего! — каким-то прерывистым голосом сказал ротный.— Отобьем атаку, не бойтесь, даст бог, привыкнете... Ничего, ничего!..» — «Тебе ничего! — проворчал чернобородый туляк, когда ротный отошел.— Ничего! У тебя, может, имение в России, а у меня — что? Голодная баба да пятеро малых детей». Никто не поддержал туляка, никто не осудил, а взводный — тот даже не рассердился, лишь промолвил: «Ну и брешешь, не знаючи. Наш ротный сам из мужиков». Кто-то заметил: «После войны земли нарежут».— «Нарежут! Три аршина! А кому, может, и сегодня»,— не унимался туляк, ослабляя внимание к страшной канонаде.
Еще несколько снарядов, один за другим, разорвались вблизи окопов. Хомка отпрянул в уголок и перекрестился дрожащей рукой. Его всего трясло. Ожидание действовало угнетающе.
Еще снаряд. Глухой гул. И на миг все вдруг смолкло. «Мимо! Мимо!» — стучит в ушах. Орудийный взрыв склонил березы к земле, они качнулись, задрожали; земля ушла из-под ног, в окоп посыпалось, руки, ноги безвольно болтаются, потом вдруг словно онемели. Хомка сжался, укрылся за бруствером, но что-то больно толкнуло его в живот. «Что это?» — в испуге подумал он. Его прошиб пот, все члены оцепенели, захотелось пить. Перед глазами промелькнул образ матери, Ганутка, вильнула хвостом Куцая. Его отбросило к сугробу. Провалился по пояс в снег... глубже... А разъяренный городчанин все швыряет и швыряет в него тугими снежками. «За что? — сквозь слезы итак тихо, что самого себя не слышит, спрашивает Хомка.—. За что?» Шепчет он все тише и тише. Острая обида, отчаяние терзают сердце.
Страх обуял хлопчика. Он уже не может справиться с ним и падает в бездну все глубже и глубже. Где-то высоко-высоко — кто знает, как высоко! — кричит с обрыва фельдфебель: «Носилки!»
И — тишина. Все смолкло. Нигде не звука.
— Зачем тут носилки? — говорит ротный.— Он убит. Подбирайте только раненых!
В черной мгле сверкают, искрятся острые иголки, становятся тупыми, исчезают, сливаются в ничто...
Перевод Агея Гатова.
Вторую часть главы "Горькая премудрость", текст которой не был известен А. Гатову, перевел Борис Бурьян.