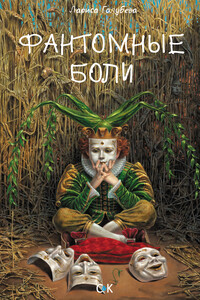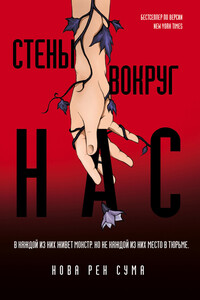– Ты сразу отца к себе заберешь? – спросила Тетка, глядя на сидевшего на крыльце старика.
Тогда я не очень-то уразумел, что она хотела этим сказать. Если небо и в самом деле вело, как хотел того священник, ожесточенную борьбу за ее черствую душу, должно быть, именно в этот момент она с особенной ясностью подумала о приближающейся смерти. А может, даже сумела определить время ее прихода. Я соскочил с брички и, ведя бачевскую барыню к дверям ее восстановленной усадебки, ожидал, что сейчас она скажет мне, как быть дальше и раскроет смысл странного вопроса о будущем моего, уже много лет живущего здесь, отца. Но когда я объявил, что намерен уехать отсюда, так как не вижу, чем могу быть еще полезен, Тетка спокойно выслушала меня и, не обратив внимания на тревогу, которая слышалась в моих словах, сказала:
– Так тому и быть. Это хорошо. К каждому приходит его время…
И, словно припомнив что-то необычайно важное, показала рукой на недавно восстановленные, но уже облупившиеся от дождя аркады, провела ладонью по начинающим рассыхаться деревянным, выкрашенным масляной краской колонкам и вздохнула:
– Боже мой, какое это все старое. Незачем и восстанавливать.
И я уехал, предоставив Тетку с ее усадьбой воле более сильной, чем моя, – воле божьей. На станции, всматриваясь в клубы темно-бурого дыма над товарным составом, я на минуту подумал: «Теперь она, пожалуй, наверняка спалит усадьбу, ведь больше так жить невозможно, чего ради вся эта борьба за землю…»
Но мысли эти скорей были вызваны крайним переутомлением. Я по горло был сыт Бачевом. И, конечно же, не подозревал, что это предпоследний мой визит сюда и что я снова приеду в Бачев послезавтра, чтобы прочитать страничку, на которой бачевская барыня слабеющей рукой своей написала то же самое, что пыталась разъяснить мне накануне, глядя на проглядывающую из-под свежей краски и штукатурки неотвратимую дряхлость восстановленной усадьбы.
1964