Теплый лед - [31]
Стойчев, командир полковой батареи, — полпорции подпоручика. Такие носят высокие каблуки и вечно лезут в драку. Если им повезет по службе, становятся тиранами. Но от таких понятий, как тирания, подпоручик далек, он только носит высокие каблуки и хорохорится. Усики его аккуратно подправлены бритвой, голос хриплый, зубы пожелтели от табака. Вместе с ним мы объезжаем самых норовистых коней, и этого достаточно, чтобы на других офицеров смотреть свысока. Сзади его брюки обшиты тонкой хромовой кожей, красные канты, пристроченные узором, проходят над коленями, сапоги с задниками на пядь выше обычных. Такие, как он, могут понять тебя с полуслова.
— Стойчев, — спрашиваю его, — ты знаешь, что такое пустой стог сена?
Стойчев смотрит на меня как на пятнадцатидюймовое орудие: какой еще пустой стог? Он не понял, и я ему объясняю, что в полку в некоторых ротах есть солдаты, никак не подходящие для показа. Глаза у них мутные, как гнилые черешни; когда говорят — брызжут слюной; портреты разных деятелей, висящие в спальных помещениях, называют иконами. Такие, говорю, доведут инспекторов до умопомрачения. Это и есть пустой стог сена!
Стойчев хлопает себя по лбу.
— И у меня, — говорит, — в батарее есть такие зернышки, а ведь у нас сплошные синусы, косинусы — математика, Глядишь, и мы у себя блох переловим…
Ночь. Ах какая ночь качает свой синий тюль над Стара-Загорой! Электрические лампочки на улице Царя-Освободителя нанизаны как перламутровые пуговицы на фиолетовую фракийскую антерию. В одном из домов какая-то Райничка кудрявит на скрипке Паганини и дарит его, завитого, через раскрытые окна музыкальной публике в квартале.
От напряжения все тело Стойчева покрылось испариной, он движется по плацу на полусогнутых ногах, как будто несет что-то тяжелое. Мы довольны собой. Как и полагается по правилам безопасности, выставили на почтительном расстоянии охрану, а батарейцы спокойно сооружают из тюков прессованной соломы какую-то вавилонскую башню. Завтра с восходом солнца десятка два солдат, отобранных по списку, поползут на четвереньках через оставленную дыру внутрь пустого стога…
Еще синеют предрассветные сумерки. Сквозь дрему слышу, как хозяйка разжигает в чугунной кастрюле, используемой в качестве плиты, уголь. На улице по мостовой зацокали подковы, тоненько заржал конь. Узнаю по ржанию — мой жеребец Утро. Подпоручик Стойчев в одной руке держит уздечку своего Гранита, другой подает мне знак: давай выходи, пока полк еще не расшевелился. Офицерское облачение — как сундук с женскими пряжками, брошками и заколками. Черт бы их побрал, всякие штрипки, шпоры, кортики, кобуры и орденские ленточки! Пока я нацепляю на себя всю эту галантерею, подпоручик, ерзая от нетерпения, протирает штанами седло. Цветет сирень. Утренний холодок освежает готовые расцвести бутоны роз. Стойчев разминает коней, чтобы не застоялись, и поясняет мне, почему нельзя, чтобы кони застаивались:
— Грешно перебивать сиреневый аромат конскими яблоками… — Он идет слева, на полкрупа сзади, и рассуждает: — А лошадь, когда укроешь ее попоной и поставишь в безветренное место, не простудится и не наделает тебе лишних хлопот…
Те, кого мы определяем в затишек, чтобы не создали нам лишних хлопот, вползают на четвереньках через вход соломенной вавилонской башни. Брюки у них трещат сзади от натуги, утреннее солнце катается по ягодицам. Батарейцы притащили им мешки с сухарями и консервами, а один фельдфебель вспомнил и о баке с водой. Он командует парадом со стороны, пряжка на его ремне сверкает и золотит его руку дешевым унтер-офицерским золотом.
Вот уже замуровывают вход. Стойчев кричит им, что они могут теперь играть в «кошки-мышки», но только без шума.
— А что это — «кошки-мышки»? — спрашивает из соломы чей-то бас.
Гора с моих плеч свалилась, и я расфилософствовался.
— Сейчас, — говорю я, — мы пожинаем плоды капиталистической системы образования, но пройдет немного времени, и у нас будут солдаты только со средним и высшим образованием.
Подпоручик Стойчев мне возражает:
— Нет, пусть будут только со средним, потому что с высшим образованием солдаты будут знать больше нас и наступит афан-туфан.
— Что это такое «афан-туфан?» — спрашиваю.
Стойчев хихикает:
— Когда придет время давать взаймы ум людям, знающим больше тебя, вот и наступит тебе афан-туфан. Простой народ — сильная держава!
Теперь я смотрю на него как на пятнадцатидюймовое орудие.
— Согласен, — говорю, — чтобы солдаты были только со средним образованием.
Те, что с воспаленными глазами, сидят как кроты в соломе. В «кошки-мышки» играют или в «бабки» — их дело. Только бы не чихали да не кашляли, чтобы не подвели своих!..
Хорошие ребята: не кашлянули, не чихнули…
Инспекторская проверка прошла как по маслу. Те, что остались отвечать на политические вопросы, стрелять на полигоне по подвижным мишеням, отличат портрет от иконы. Начальник штаба армии сказал мне такое приятное, что не могу удержаться, чтобы не повторить. Он сказал, что новый командир принял от меня хороший полк, что я офицер с будущим… Или что-то в этом духе. А как же может быть иначе? Не оставлять же это будущее на тех, кто говорит медведю: ешь меня, — а если и не говорит, то не может ложкой в рот попасть! Но кто, пролив столько пота, в двадцать три года не мечтает о будущем? Я ношусь по плацам, как победитель, с ангельской легкостью на душе. Из памяти выветрилось, что на вокзале неделю-две назад у меня дрожали коленки и пересыхали губы, что лицо мое каменело от подобия улыбки, а от усилия скрыть это моя физиономия еще больше каменела. Дело сделано — сладкое после горького хорошо идет…
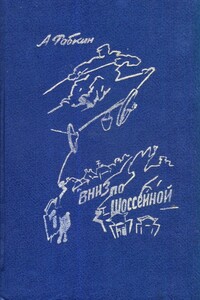
Абрам Рабкин. Вниз по Шоссейной. Нева, 1997, № 8На страницах повести «Вниз по Шоссейной» (сегодня это улица Бахарова) А. Рабкин воскресил ушедший в небытие мир довоенного Бобруйска. Он приглашает вернутся «туда, на Шоссейную, где старая липа, и сад, и двери открываются с легким надтреснутым звоном, похожим на удар старинных часов. Туда, где лопухи и лиловые вспышки колючек, и Годкин шьёт модные дамские пальто, а его красавицы дочери собираются на танцы. Чудесная улица, эта Шоссейная, и душа моя, измученная нахлынувшей болью, вновь и вновь припадает к ней.

Один человек с плохой репутацией попросил журналиста Максима Грязина о странном одолжении: использовать в статьях слово «блабериды». Несложная просьба имела последствия и закончилась журналистским расследованием причин высокой смертности в пригородном поселке Филино. Но чем больше копал Грязин, тем больше превращался из следователя в подследственного. Кто такие блабериды? Это не фантастические твари. Это мы с вами.
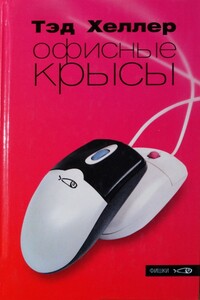
Популярный глянцевый журнал, о работе в котором мечтают многие американские журналисты. Ну а у сотрудников этого престижного издания профессиональная жизнь складывается нелегко: интриги, дрязги, обиды, рухнувшие надежды… Главный герой романа Захарий Пост, стараясь заполучить выгодное место, доходит до того, что замышляет убийство, а затем доводит до самоубийства своего лучшего друга.

Взглянуть на жизнь человека «нечеловеческими» глазами… Узнать, что такое «человек», и действительно ли человеческий социум идет в нужном направлении… Думаете трудно? Нет! Ведь наша жизнь — игра! Игра с юмором, иронией и безграничным интересом ко всему новому!
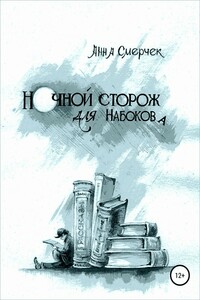
Эта история с нотками доброго юмора и намеком на волшебство написана от лица десятиклассника. Коле шестнадцать и это его последние школьные каникулы. Пора взрослеть, стать серьезнее, найти работу на лето и научиться, наконец, отличать фантазии от реальной жизни. С последним пунктом сложнее всего. Лучший друг со своими вечными выдумками не дает заскучать. И главное: нужно понять, откуда взялась эта несносная Машенька с леденцами на липкой ладошке и сладким запахом духов.
