Теория романа - [27]
Всякая форма, чтобы обрести субстанцию именно как форма, должна в чем-то быть положительной. Парадоксальность романа, его проблематичность сказывается в том, что то состояние мира и тот человеческий тип, которые больше всего соответствуют его формальным требованиям и которым он сам только один и в состоянии адекватно отвечать, ставят почти неразрешимые творческие задачи. Роман разочарования Якобсена[5], выражающий в чудесных лирических картинах грусть, вызванную тем, что "на свете так много бессмысленной тонкости", распадается на части, и автор, пытаясь найти нечто положительное в героическом и отчаянном атеизме Нильса Люне, мужественно приемлющего свое неизбежное одиночество, прибегает скорее к внешнему приему, который остается чужд самому произведению. Ибо эта жизнь, которая, вместо того чтобы превратиться в поэзию, стала лишь скверным фрагментом, в итоге творческого процесса оборачивается какой-то грудой осколков; жестокий отказ от иллюзии может только обесценить лирику душевных состояний, не придав людям и событиям субстанциальность и весомость бытия. Остается прекрасная, но призрачная смесь упоения и горечи, печали и издевки, но единства нет; даны картины и аспекты, а не тотальность жизни. Точно так же не могла не кончиться неудачей попытка Гончарова включить в тотальность великолепно, глубоко и верно увиденную фигуру Обломова, противопоставив ему положительного героя. Что пользы в том, что для воссоздания пассивности этого человеческого характера автор нашел такой сильный наглядный образ, как вечное безнадежное лежание Обломова. Рядом с глубоко трагической ситуацией этого человека, который все существенное непосредственно переживает в своей душе, но неизбежно терпит крушение при встрече с самыми мелкими проявлениями внешней действительности, победоносное счастье его сильного друга Штольца выглядит плоско и тривиально, хотя и сохраняя в себе достаточно силы и весомости, чтобы раскрыть судьбу Обломова во всем ее убожестве: жуткий комизм противоречий внутреннего и внешнего, исходящий от лежащего на диване Обломова, все заметнее теряет глубину и величие по мере того как развивается действие — воспитательная работа его друга и ее неудача — и все более выступает как безрадостная судьба заранее обреченного человека.
Разлад между идеей и действительностью больше всего выражается во времени, в его течении, в его длительности. Субъективность не выдерживает испытания, и самое жестокое и унизительное поражение она терпит не в тщетной борьбе против безыдейных социальных структур и их представителей: поражение заключается в невозможности выдержать медленное постепенное течение времени, в неудержимом сползании с трудно завоеванных вершин, и этот неуловимый, незаметный процесс отнимает у нее все, навязывая ей чужеродное содержание. Поэтому только роман, эта форма трансцендентальной бездомности идеи, включает реальное время, Бергсоново dure'e[6], в число своих основополагающих принципов.
То, что драма не знает понятия времени и что каждое драматическое произведение подвластно правилу (правильно понятому) трех единств, мне уже довелось отметить в другой связи[7]. А вот эпопея как будто бы знает, что такое временная длительность, достаточно вспомнить "Илиаду" и "Одиссею" с их десятилетними сроками. Но в этом времени, как в драматическом, очень мало реальности, подлинной длительности: ни людей, ни судьбы оно не затрагивает, в нем нет собственного движения, и его единственная функция — эффектно выразить величие какого-то предприятия или противоборства. Для того чтобы слушатель по-настоящему почувствовал, что такое Троянская война или странствования Одиссея, требуется их многолетняя продолжительность, точно так же как и полчища воинов и огромные пространства, которые приходится преодолевать. Но сами герои в рамках поэмы времени не переживают: оно не определяет в них ни перемен, ни постоянства, свой возраст они получили в придачу к характеру, и Нестор стар точно так же, как Елена прекрасна, а Агамемнон могуществен. Героям эпопеи, правда, доступно старение и умирание, как и всякое горестное познание, приносимое жизнью, — но именно лишь как познание; переживания же их, как по содержанию, так и по форме, являют собой блаженную божественную отрешенность от времени. Согласно Гете и Шиллеру, нормативная установка эпопеи — это ориентация на всецело минувшее прошлое; следовательно, время здесь стоит на месте, и его можно охватить одним взором. Автор и персонажи могут в этом времени свободно передвигаться в любом направлении; как всякая протяженность, такое время имеет много измерений, но не имеет никакого направления. И нормативное настоящее время драмы, также установленное Гете и Шиллером, опять-таки ведет, по словам Гурнеманца[8], к превращению времени в пространство, и лишь полная дезориентированность современной литературы поставила невыполнимую задачу изображать в драматических произведениях постепенное течение времени.
Время может лишь тогда получить основополагающее значение, когда прекращается связь с трансцендентальной родиной. Как экстаз переносит мистика в такую сферу, где прекращается всякая длительность и всякое течение времени и откуда он лишь в силу своей тварно-органической конечности вынужден спускаться назад во временной мир, — так любая форма внутренней связи с Сущностью создает космос, априори неподвластный этой необходимости. Только в романе, содержание которого составляют необходимость искать Сущность и неспособность ее найти, время слито с формой: время — это сопротивление, оказываемое жизненной органикой смыслу, стремление жизни не выходить за пределы собственной самозамкнутой имманентности. В эпопее жизненная имманентность смысла так сильна, что отменяет время: жизнь как таковая делается вечной, и органика берет себе из времени лишь расцвет, предавая забвению и преодолевая увядание и умирание. В романе отделяются друг от друга смысл и жизнь, а вместе с ними сущностное и временное; можно даже, пожалуй, сказать, что все внутреннее действие романа есть не что иное, как борьба с могуществом времени. В романтизме разочарования время служит упадку: поэзия, сущностное должны погибнуть, и именно время в конечном счете причина ее гибели. Поэтому все ценности здесь на стороне побежденного — того, что чахнет и тем самым приобретает характер отцветающей молодости; времени же приписываются грубость и безыдейная жестокость. И, как бы корректируя задним числом односторонне лирический характер этой борьбы с побеждающей силой, самоирония обращается против гибнущей Сущности, вновь, но теперь уже в отрицательном смысле делает ее атрибутом молодости; основополагающее значение идеал приобретает лишь для душевной незрелости. Но все здание романа покосится, если в этой борьбе положительное и отрицательное будут столь резко разобщены. В этом случае форма может по-настоящему отрицать жизненный принцип, только если она в состоянии априори исключить его из своей сферы; если же ей приходится вобрать его в себя, то он становится для нее положительным: теперь уже не только в сопротивлении, но и в собственном существовании он составляет обязательную предпосылку осуществления ценностей.
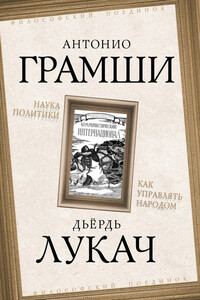
Антонио Грамши – видный итальянский политический деятель, писатель и мыслитель. Считается одним из основоположников неомарксизма, в то же время его называют своим предшественником «новые правые» в Европе. Одно из главных положений теории Грамши – учение о гегемонии, т. е. господстве определенного класса в государстве с помощью не столько принуждения, сколько идеологической обработки населения через СМИ, образовательные и культурные учреждения, церковь и т. д. Дьёрдь Лукач – венгерский философ и писатель, наряду с Грамши одна из ключевых фигур западного марксизма.

"Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены" #1(69), 2004 г., сс.91–97Перевод с немецкого: И.Болдырев, 2003 Перевод выполнен по изданию:G. Lukacs. Von der Verantwortung der Intellektuellen //Schiksalswende. Beitrage zu einer neuen deutschen Ideologie. Aufbau Verlag, Berlin, 1956. (ss. 238–245).

Вниманию читателя предлагается переписка философов Мих. Лифшица (1905–1983) и Д. Лукача (1885–1971). Она относится к 1931–1970 гг. и включает все известные письма. Их оригиналы находятся в Архиве Д. Лукача (Венгрия). За редкими исключениями письма вводятся в научный оборот впервые. В приложении к переписке приводятся 12 документальных материалов, характеризующих официальный исторический фон, на котором эта переписка разворачивалась. Большинство материалов приложения также публикуется впервые.

Серия «Классики за 30 минут» позволит Вам в кратчайшее время ознакомиться с классиками русской литературы и прочитать небольшой отрывок из самого представленного произведения.В доступной форме авторы пересказали наиболее значимые произведения классических авторов, обозначили сюжетную линию, уделили внимание наиболее важным моментам и показали характеры героев так, что вы сами примите решение о дальнейшем прочтении данных произведений, что сэкономит вам время, либо вы погрузитесь полностью в мир данного автора, открыв для себя новые краски в русской классической литературе.Для широкого круга читателей.

Серия «Классики за 30 минут» позволит Вам в кратчайшее время ознакомиться с классиками русской литературы и прочитать небольшой отрывок из самого представленного произведения.В доступной форме авторы пересказали наиболее значимые произведения классических авторов, обозначили сюжетную линию, уделили внимание наиболее важным моментам и показали характеры героев так, что вы сами примите решение о дальнейшем прочтении данных произведений, что сэкономит вам время, либо вы погрузитесь полностью в мир данного автора, открыв для себя новые краски в русской классической литературе.Для широкого круга читателей.

Статья напечатана 18 июня 1998 года в газете «Днепровская правда» на украинском языке. В ней размышлениями о поэзии Любови Овсянниковой делится Виктор Федорович Корж, поэт. Он много лет был старшим редактором художественной литературы издательства «Промінь», где за 25 лет работы отредактировал более 200 книг. Затем заведовал кафедрой украинской литературы в нашем родном университете. В последнее время был доцентом Днепропетровского национального университета на кафедре литературы.Награжден почётной грамотой Президиума Верховного Совета УРСР и орденом Трудового Красного Знамени, почетным знаком отличия «За достижения в развитии культуры и искусств»… Лауреат премий им.

Ранний период петербургской жизни Некрасова — с момента его приезда в июле 1838 года — принадлежит к числу наименее документированных в его биографии. Мы знаем об этом периоде его жизни главным образом по поздним мемуарам, всегда не вполне точным и противоречивым, всегда смещающим хронологию и рисующим своего героя извне — как эпизодическое лицо в случайных встречах. Автобиографические произведения в этом отношении, вероятно, еще менее надежны: мы никогда не знаем, где в них кончается воспоминание и начинается художественный вымысел.По всем этим обстоятельствам биографические свидетельства о раннем Некрасове, идущие из его непосредственного окружения, представляют собою явление не совсем обычное и весьма любопытное для биографа.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Предисловие известного историка драмы Юрия Фридштейна к «Коллекции» — сборнику лучших пьес английского драматурга Гарольда Пинтера, лауреата Нобелевской премии 2005 года.