Теология жизни. Как Ницше, убивая Бога, воскресил Его - [3]
Вот краткий символ ницшевской веры из его «Воли к власти» (фрагмент 1033): «Утверждающие аффекты: — гордость, радость, здоровье, половая любовь, вражда и война, благоговение, красивая повадка, манеры, сильная воля, дисциплина высокой духовности, воля к могуществу, благодарение земле и жизни — все, что изобильно и хочет отдавать, и дарует жизнь, и облагораживает, и увековечивает, и обожествляет — вся мощь преображающих добродетелей… всякое согласие с жизнью, да–сказание, да–деяние». [7]
Из 36 знаменательных слов я выделил курсивом 24, то есть две трети, — именно те, где ницшевское утверждение совпадает с христианским. Можно ли усомниться, что тот, кто исцелял больных и воскрешал мертвых, утверждает радость и здоровье не меньше, чем хронически больной Ницше, страдавший от множества ведомых и неведомых недугов: головных болей, несварения желудка, ломоты в костях… наконец, проведший одиннадцать лет в клиническом безумии. Тридцатишестилетний Ницще сообщает о себе: «Непрекращающаяся боль; многочасовые приступы дурноты, схожие с морской болезнью; полупаралич, во время которого у меня отнимается язык, и для разнообразия жесточайшие припадки, сопровождаемые рвотой (в последний раз она продолжалась три дня и три ночи, я жаждал смерти)». [8] И таких дней в каждом году у Ницше было около двухсот. Неудивительно, что из подобных недугов рождается философская галлюцинация: сверхчеловек, сверхздоровье и сверхмогущество. Но она не подкреплена личным опытом. По–настоящему здоровому человеку свойственно сочувствие к больным и слабым, а не стремление столкнуть их в пропасть («падающего подтолкни»). Здоровый любит жизнь в ее мельчайших проявлениях и, по крайней мере, чтит бытие. Будущий Мессия, по словам пророка Исайи, трости надломленной не переломит и льна курящегося не угасит.
Гордыня — один из смертных грехов, и многие теологи толкуют ее как корень человеческой греховности. Но гордость, если понимать под этим высокое представление о своем предназначении, вовсе не чужда христианам. Человек, дерзавший говорить о себе, что он Сын Божий, посланный выполнять волю своего Небесного Отца, вовсе не страдал от избытка скромности. И к ученикам своим он предъявляет требование «быть совершенными, как совершенен ваш Отец Небесный». Такие устремления предполагают высоту самосознания, волю к святости как образу Бога в человеке. Бог очеловечился, чтобы человек обожился, — в этом есть гордость, если понимать под последней не утверждение своих личных заслуг, а сознание своего высшего предназначения, радостное чувство избранничества, которое никак не исключает готовности положить душу свою за други своя. Само смирение Иисуса, который «смирил себя до смерти», есть проявление этого высокого избраннического служения. Гордость определяется в словарях как «чувство собственного достоинства, самоуважения», а «гордыня» — как «непомерная гордость». Гордыня тем и отличается от гордости, что человек приписывает все лучшее себе, тогда как гордость берет на себя самое трудное. Человек не может не гордиться тем, что Бог верит в него и поручает ему владычествовать над всей землей, а потом посылает своего Сына в человеческом облике, чтобы спасти этот гибнущий род.
«Когда взираю я на небеса Твои — дело Твоих перстов, на луну и звезды, которые Ты поставил,
То что` [есть] человек, что Ты помнишь его, и сын человеческий, что Ты посещаешь его?
Не много Ты умалил его пред ангелами; славою и честию увенчал его;
Поставил его владыкою над делами рук Твоих; всё положил под ноги его…» (Пс. 8:4–7).
Это и есть самооценка верующего, Божьего избранника, в котором нерасторжимы гордость и смирение. Tы вознес меня, недостойного, над всей тварью, и поставил выше всех во вселенной, сделал образом своим и подобием. Гордыня — это омертвевшая гордость, которая превращает свою избранность в некую субстанцию превосходства, тогда как гордость — это живой мотив действия, устремления, надежды. Я горжусь тем, что мне вручены таланты, и стараюсь приумножить их, чтобы оказаться лучшим работником на Твоем поле, Господи.
«Вражда и война». Христос провозгласил: «…не мир пришел Я принести, но меч» (Матф. 10:34), и сказал о разделениях, которые войдут в народ и в семью: между родителями и детьми, братьями и сестрами. Но Он же заповедал и миротворчество. «Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими» (Матф. 5:9). Это одно из тех противоречий Евангелия, которые укрепляют его жизненность. Мир — это благо, миротворчество — добродетель. Но само учение миротворчества, призыв к миру разделяет людей; одни принимают, откликаются на этот зов, другие — отвергают. Таким образом, сам мир, сам призыв к смирению и к Царству Небесному становится мечом, разделяющим людей. И наоборот, то, что у Ницше не совпадает с христианскими ценностями, переоценкой которых он всю жизнь занимался, — то не совпадает (удивительно!) и с реальным обликом самого Ницше. Воля к могуществу? Современники отзываются о Ницше как о кротком, благовоспитанном человеке невзрачной наружности, с тихим нравом и деликатными манерами. Чувственная любовь? Известно лишь об одном случае влюбленности Ницше, к тому же безответной (в Лу Саломе), а о его половой жизни известно лишь то, что ее, скорее всего, не было.
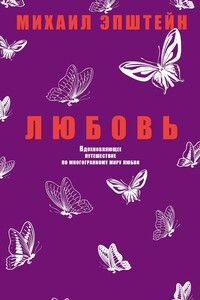
Многомерный мир любви раскрывается в книге Михаила Эпштейна с энциклопедической широтой и лирическим вдохновением. С предельной откровенностью говорится о природе эротического и сексуального, о чувственных фантазиях, о таинствах плотского знания. Книга богата афористическими определениями разных оттенков любовного чувства. Автор рассматривает желание, наслаждение, соблазн, вдохновение, нежность, боль, ревность, обращась к идеям диалогической и структуральной поэтики, экзистенциальной психологии, философской антропологии.
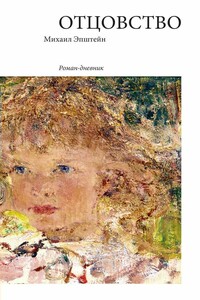
Автор книги «Отцовство» — известный философ и филолог, профессор университетов Дарема (Великобритания) и Эмори (Атланта, США) Михаил Эпштейн. Несмотря на широкий литературный и интеллектуальный контекст, размышления автора обращены не только к любителям философии и психологии, но и ко всем родителям, которые хотели бы глубже осознать свое призвание. Первый год жизни дочери, «дословесный» еще период, постепенное пробуждение самосознания, способности к игре, общению, эмоциям подробно рассматриваются любящим взором отца.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
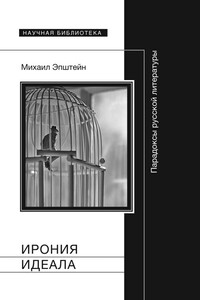
Русская литература склонна противоречить сама себе. Книга известного литературоведа и культуролога Михаила Эпштейна рассматривает парадоксы русской литературы: святость маленького человека и демонизм державной власти, смыслонаполненность молчания и немоту слова, Эдипов комплекс советской цивилизации и странный симбиоз образов воина и сновидца. В книге прослеживаются «проклятые вопросы» русской литературы, впадающей в крайности юродства и бесовства и вместе с тем мучительно ищущей Целого. Исследуется особая диалектика самоотрицания и саморазрушения, свойственная и отдельным авторам, и литературным эпохам и направлениям.
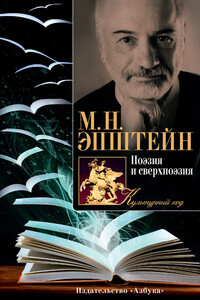
Михаил Наумович Эпштейн – российский философ, культуролог, литературовед, лингвист, эссеист, лауреат премий Андрея Белого (1991), Лондонского Института социальных изобретений (1995), Международного конкурса эссеистики (Берлин – Веймар, 1999), Liberty (Нью-Йорк, 2000). Он автор тридцати книг и более семисот статей и эссе, переведенных на два десятка иностранных языков. Его новая книга посвящена поэзии как особой форме речи, в которой ритмический повтор слов усиливает их смысловую перекличку. Здесь говорится о многообразии поэтических миров в литературе, о классиках и современниках, о тех направлениях, которые сформировались в последние десятилетия XX века.

Культурологические рассуждения 1998 г. об усиливающейся виртуализации русского сознания — от русского киберпанка, литературоцентризма и литературоненавистничества Рунета через модус «как бы»-мышления и цитатность Интернет-дискурса к распыленному гиперавторству всемирного Текста.Опубликовано в «Русском журнале» в 1998 г.
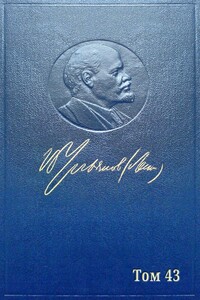
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
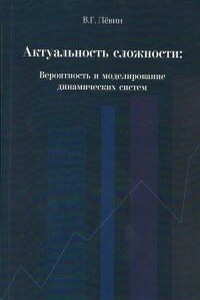
Исследуется проблема сложности в контексте разработки принципов моделирования динамических систем. Применяется авторский метод двойной рефлексии. Дается современная характеристика вероятностных и статистических систем. Определяются общеметодологические основания неодетерминизма. Раскрывается его связь с решением задач общей теории систем. Эксплицируется историко-научный контекст разработки проблемы сложности.
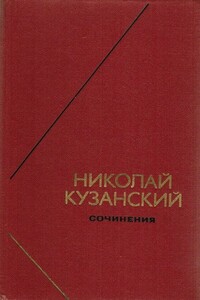
Во второй том Сочинений вошли его главные произведения 1449—1464 гг. «Апология ученого незнания», «О видении бога», «Берилл», «О неином», «Игра в шар», «Охота за мудростью» и др. На почве античной и средневековой традиции здесь развертывается диалектика восхождения к первоначалу, учение о единстве мира, о человеке как микрокосме и о цели жизни.

Артемий Владимирович Магун (р. 1974) — философ и политолог, профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге, преподает на Факультете свободных искусств и наук СПбГУ. Подборка статей по политологии и социологии с 2003 по 2017 гг.

I. Современный мир можно видеть как мир специалистов. Всё важное в мире делается специалистами; а все неспециалисты заняты на подсобных работах — у этих же самых специалистов. Можно видеть и иначе — как мир владельцев этого мира; это более традиционная точка зрения. Но для понимания мира в аспектах его прогресса владельцев можно оставить за скобками. Как будет показано далее, самые глобальные, самые глубинные потоки мировых тенденций владельцы не направляют. Владельцы их только оседлывают и на них едут. II. Это социально-философское эссе о главном вызове, стоящем перед западной цивилизацией — о потере ее людьми изначальных человеческих качеств и изначальной человеческой целостности, то есть всего того, что позволило эту цивилизацию построить.

Санкт-Петербург - город апостола, город царя, столица империи, колыбель революции... Неколебимо возвысившийся каменный город, но его камни лежат на зыбкой, болотной земле, под которой бездна. Множество теней блуждает по отражённому в вечности Парадизу; без счёта ушедших душ ищут на его камнях свои следы; голоса избранных до сих пор пробиваются и звучат сквозь время. Город, скроенный из фантастических имён и эпох, античных вилл и рассыпающихся трущоб, классической роскоши и постапокалиптических видений.