Теология жизни. Как Ницше, убивая Бога, воскресил Его - [2]
Жизнь понимается в христианстве тоньше и красочнее, чем «воля к власти», она состоит не из торжества и права сильного, но из терпения и надежды. Именно в годы жесточайшего гонения на христианство Пастернак и Мандельштам, совсем не церковные люди, нашли самые глубокие слова для выражения его животворящего духа. У Мандельштама есть удивительное прозрение в христианскую наполненность жизни: проникнутой ожиданием, надеждой, вниманием к чужому. Жизни кроткой, нежной и именно поэтому углубленной в тайну вечного непобеждаемого живого:
Вот образ жизни в ее наименьшем остатке, прорастающей через смерть, через пустоту, через голод и холод, через невозможность выжить. Христианство есть наука и искусство выживания в мире, обреченном смерти. Это скорая помощь для терпящих жизненное крушение. Это узкий путь спасения для тех, кто хочет выжить вопреки равнодушию мира к себе. Тепло помета, — но все–таки тепло; остывающая жизнь, но и она может согреть кого–то. Овечье тепло — бестолковое, все бредут кучей, стадом, неизвестно куда, — но все–таки общность. Желтизна травы, теплота суглинка, жалкий пух — таковы эти остаточные и необходимые признаки жизни у Мандельштама. «…И шарить в пустоте, и терпеливо ждать». Подчеркивается бессмысленность, бестолковость этого ожидания — и его неистребимость, упорство самых малых ростков жизни.
Вот чего Ницше не охватывает своей философией жизни. Ему ведом только абсолютный максимум и неведом абсолютный минимум, та немощь, в которой свершается сила. Неведома сила всех тех блаженств, которые обещаны кротким, алчущим, нищим. Мир Ницше исполнен мощи и великолепия, но лишен выхода в другое измерение, в «Царство Небесное», и поэтому обречен вращаться в колесе вечного возвращения. Для Ницше нет источника благодати и чуда, потому что жизнь производится только из самой себя, из биологических оснований, и никакой дух свыше не идет ей навстречу, не совершает чудес исцеления и воскрешения.
2 Кор. 12:9: «Но [Господь] сказал мне: «довольно для тебя благодати Моей, ибо сила Моя совершается в немощи“. И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова».
Христианство настолько одержимо жаждой вечной жизни, что пренебрегает многими дарами жизни земной, — но не потому, что не ценит ее, а потому, что хочет ее полного торжества за пределом времени и смерти. Как замечает Г. К. Честертон, «настоящая смелость — почти противоречие: очень сильная любовь к жизни выражается в готовности к смерти. <…> Солдат, окруженный врагами, пробьется к своим только в том случае, если он очень хочет жить и как–то беспечно думает о смерти. Если он только хочет жить — он трус и бежать не решится. Если он только готов умереть — он самоубийца; его и убьют. Он должен стремиться к жизни, яростно пренебрегая ею…» [6]
Христианство идет на штурм вечности, а где штурм — там и жертва. Иоан. 10:11: «Я есмь пастырь добрый: пастырь добрый полагает жизнь свою за овец». Иоан. 11:25: «Иисус сказал ей: Я есмь воскресение и жизнь; верующий в Меня, если и умрет, оживет». Иоан. 12:24: «Истинно, истинно говорю вам: если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно; а если умрет, то принесет много плода». Иоан. 12:25: «Любящий душу свою погубит ее; а ненавидящий душу свою в мире сем сохранит ее в жизнь вечную».
Но попробуем дальше распространить эту парадоксальную логику христианства на самого Ницше. В его лице христианство проходит через жесточайшее интеллектуальное испытание, страдает, умирает — чтобы возродиться в постницшевской теологии жизни, теологии воскресения. Ницше яростно обличал христианство, христиан и самого Христа, назвав свою итоговую книгу «Антихрист. Проклятие христианству». И тем не менее очень многое в его речах против христиан напоминает слова самого Христа, обличающие книжников и фарисеев. В какой–то степени Ницше проникнут христианским духом — в ту эпоху, когда само христианство, после столетий господства в качестве официальной религии, стало приобретать некоторые черты фарисейства. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты» (Матф. 23:27). Ницще — низвергатель христианства и вместе с тем свидетель и даже воскреситель его творческой правды, которая была вытеснена законом и буквой.
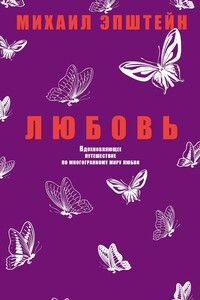
Многомерный мир любви раскрывается в книге Михаила Эпштейна с энциклопедической широтой и лирическим вдохновением. С предельной откровенностью говорится о природе эротического и сексуального, о чувственных фантазиях, о таинствах плотского знания. Книга богата афористическими определениями разных оттенков любовного чувства. Автор рассматривает желание, наслаждение, соблазн, вдохновение, нежность, боль, ревность, обращась к идеям диалогической и структуральной поэтики, экзистенциальной психологии, философской антропологии.
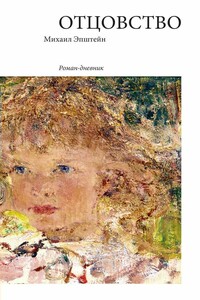
Автор книги «Отцовство» — известный философ и филолог, профессор университетов Дарема (Великобритания) и Эмори (Атланта, США) Михаил Эпштейн. Несмотря на широкий литературный и интеллектуальный контекст, размышления автора обращены не только к любителям философии и психологии, но и ко всем родителям, которые хотели бы глубже осознать свое призвание. Первый год жизни дочери, «дословесный» еще период, постепенное пробуждение самосознания, способности к игре, общению, эмоциям подробно рассматриваются любящим взором отца.
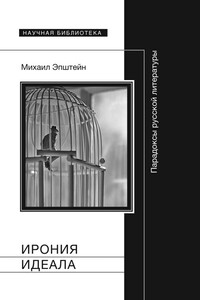
Русская литература склонна противоречить сама себе. Книга известного литературоведа и культуролога Михаила Эпштейна рассматривает парадоксы русской литературы: святость маленького человека и демонизм державной власти, смыслонаполненность молчания и немоту слова, Эдипов комплекс советской цивилизации и странный симбиоз образов воина и сновидца. В книге прослеживаются «проклятые вопросы» русской литературы, впадающей в крайности юродства и бесовства и вместе с тем мучительно ищущей Целого. Исследуется особая диалектика самоотрицания и саморазрушения, свойственная и отдельным авторам, и литературным эпохам и направлениям.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
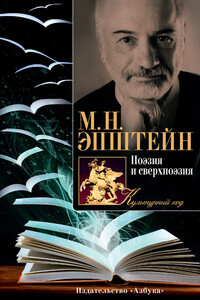
Михаил Наумович Эпштейн – российский философ, культуролог, литературовед, лингвист, эссеист, лауреат премий Андрея Белого (1991), Лондонского Института социальных изобретений (1995), Международного конкурса эссеистики (Берлин – Веймар, 1999), Liberty (Нью-Йорк, 2000). Он автор тридцати книг и более семисот статей и эссе, переведенных на два десятка иностранных языков. Его новая книга посвящена поэзии как особой форме речи, в которой ритмический повтор слов усиливает их смысловую перекличку. Здесь говорится о многообразии поэтических миров в литературе, о классиках и современниках, о тех направлениях, которые сформировались в последние десятилетия XX века.
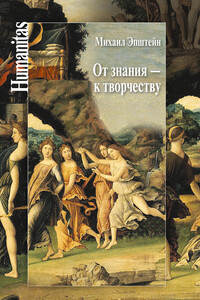
М.Н. Эпштейн – известный филолог и философ, профессор теории культуры (университет Эмори, США). Эта книга – итог его многолетней междисциплинарной работы, в том числе как руководителя Центра гуманитарных инноваций (Даремский университет, Великобритания). Задача книги – наметить выход из кризиса гуманитарных наук, преодолеть их изоляцию в современном обществе, интегрировать в духовное и научно-техническое развитие человечества. В книге рассматриваются пути гуманитарного изобретательства, научного воображения, творческих инноваций.

Жизнь — это миф между прошлым мифом и будущим. Внутри мифа существует не только человек, но и окружающие его вещи, а также планеты, звезды, галактики и вся вселенная. Все мы находимся во вселенском мифе, созданным творцом. Человек благодаря своему разуму и воображению может творить собственные мифы, но многие из них плохо сочетаются с вселенским мифом. Дисгармоничными мифами насыщено все информационное пространство вокруг современного человека, в результате у людей накапливается множество проблем.

Целью данного учебного пособия является знакомство магистрантов и аспирантов, обучающихся по специальностям «политология» и «международные отношения», с основными течениями мировой политической мысли в эпоху позднего Модерна (Современности). Основное внимание уделяется онтологическим, эпистемологическим и методологическим основаниям анализа современных международных и внутриполитических процессов. Особенностью курса является сочетание изложения важнейших политических теорий через взгляды представителей наиболее влиятельных школ и течений политической мысли с обучением их практическому использованию в политическом анализе, а также интерпретации «знаковых» текстов. Для магистрантов и аспирантов, обучающихся по направлению «Международные отношения», а также для всех, кто интересуется различными аспектами международных отношений и мировой политикой и приступает к их изучению.

Михаил Наумович Эпштейн (р. 1950) – один из самых известных философов и теоретиков культуры постсоветского времени, автор множества публикаций в области филологии и лингвистики, заслуженный профессор Университета Эмори (Атланта, США). Еще в годы перестройки он сформулировал целый ряд новых философских принципов, поставил вопрос о возможности целенаправленного обогащения языковых систем и занялся разработкой проективного словаря гуманитарных наук. Всю свою карьеру Эпштейн методично нарушал границы и выходил за рамки существующих академических дисциплин и моделей мышления.

Люди странные? О да!А кто не согласен, пусть попробует объяснить что мы из себя представляем инопланетянам.

Основой этой книги является систематическая трактовка исторического перехода Запада от монархии к демократии. Ревизионистская по характеру, она описывает, почему монархия меньшее зло, чем демократия, но при этом находит недостатки в обоих. Ее методология аксиомативно-дедуктивная, она позволяет писателю выводить экономические и социологические теоремы, а затем применять их для интерпретации исторических событий. Неотразимая глава о временных предпочтениях объясняет процесс цивилизации как результат снижающихся ставок временного предпочтения и постройки структуры капитала, и объясняет, как взаимодействия между людьми могут снизить ставку временных предпочтений, проводя параллели с Рикардианским Законом об образовании связей. Сфокусировавшись на этом, автор интерпретирует разные исторические феномены, такие как рост уровня преступности, деградация стандартов морали и рост сверхгосударства.

Гений – вопреки расхожему мнению – НЕ «опережает собой эпоху». Он просто современен любой эпохе, поскольку его эпоха – ВСЕГДА. Эта книга – именно о таких людях, рожденных в Китае задолго до начала н. э. Она – о них, рождавших свои идеи, в том числе, и для нас.