Теневая сторона - [3]
Человечек в соломенной шляпе закончил свой обход и теперь отдыхал, присев к столу. Внезапно я заметил кошку, лежащую у него на коленях, на мой взгляд, обычную домашнюю кошку, белую в больших светло-коричневых и черных пятнах. Мы с кошкой посмотрели друг на друга; мордочка животного была как бы составлена из двух половин, один глаз на черном пятне, другой на белом. «Да тут целый зверинец, — сказал я себе. — Попугай, кошка, лебедь». Лебедя я упомянул потому, что на рубашке человечка — он шевельнулся, доставая платок, чтобы вытереть пот, — заметил монограмму в виде этой птицы. «Сколько воспоминаний», — пробормотал я, ничего не понимая. На меня вдруг нахлынули безудержные, но не совсем ясные воспоминания о моей юности. Да, конечно, припомнил я, у Веблена была точно такая же монограмма. Кошка продолжала смотреть на меня, словно желая внушить какую-то мысль, и я опустил глаза. Когда я их поднял, соломенная шляпа лежала на столе, а у человечка было лицо Британца Веблена. Странно, подумал я, встретить знакомое лицо у незнакомого человека. Быть может, в перипетиях странствий мне суждено было сделать открытие, что по миру рассеяно несколько экземпляров одного и того же лица.
— Дорогой друг! — вскричал Веблен и, раскрыв объятия, шагнул мне навстречу.
— Дорогой друг! — ответил я.
Мы обнялись, растроганные до слез. От него скверно пахло.
Я смотрел на него, все еще не веря своим глазам, меня слегка мутило от головокружительной тайны, соединенной теперь с этим знакомым лицом. Мы связываем лицо с определенным человеком; передо мной было лицо Веблена, но все остальное противоречило привычному образу. Для моего друга, припоминал я, это остальное — одежда, присущая ему опрятность, среда, в которой он вращался, некая педантичность и самонадеянность в манерах — как раз и было основным. (Когда обстоятельства меняются, наверное, нечто подобное может произойти с каждым.)
Стоило посмотреть, как мы, два немолодых человека, чуть не плача, сжимали друг друга в объятиях. Когда я сказал фальшивым голосом, что он прекрасно выглядит, он ответил с улыбкой:
— Ты прав, мне можно позавидовать. Но спорю, что больше всего тебе хочется спросить, как меня сюда занесло.
— Да уж конечно, — отозвался я. — Я никак не предполагал встретить тебя здесь.
— Ни дать ни взять сцена из романа. Хочешь услышать мою историю?
— Еще бы, Веблен!
— Тогда, — продолжал он, — ты, как это водится в романах, закажешь мне рюмку, и я, постепенно пьянея, расскажу о себе.
— Что тебе заказать? — спросил я, подозвав официанта.
— Мне все едино.
Он помолчал, глядя на меня. Официант принес бутылку и стакан.
— Оставить? — спросил он на своем языке.
— Оставь, — ответил Веблен.
Я взял бутылку и поднес горлышко к носу. На меня пахнуло спиртом; запах казался то сладковатым, то горьким; я рассмотрел этикетку: на ней был изображен пейзаж с горами, покрытыми снегом, луна и паук в паутине; «Сильваплана», — прочел я.
— Что это?
— Здешнее пойло, — ответил Веблен. — Тебе его не рекомендую.
— Может, переменить?
— И не думай. Мне все едино, — повторил он. — История эта началась в Эвиане года три назад. Или чуть раньше, в Лондоне. В то время мне улыбалось счастье, и Леда любила меня. Ты знал о моем романе с Ледой?
— Нет, — отозвался я, — не знал.
Мой ответ не слишком порадовал его.
— Я познакомился с ней в Лондоне на балу. Она сразу же ослепила меня, и, глядя на ее длинные белые перчатки, я сказал ей, что она лебедь — не стоило бы рассказывать тебе эти глупости, — а оказалось, что она Леда. Она не поняла меня, но рассмеялась. Поверь, на балу она была самой молодой и самой прелестной. Какими словами ее описать? Безукоризненно одетая и воспитанная; тугие белокурые локоны и голубые глаза. Она сама открыла мне пределы своего совершенства — у нее были грязные колени. «Когда я мою их или надеваю лучшее нижнее белье, мне не везет с мужчинами». (Правда, говорила она в высшей степени прямолинейно.) Характер у нее был беспечный. Я не знал другой женщины, кого так веселила бы жизнь. Нет, неверно, не жизнь вообще, а ее жизнь, ее связи, ее обманы. Все ее помыслы были прежде всего сосредоточены на себе. На книги ей не хватало терпения, и в том, что зовется культурой, она ничего не смыслила; но не надо думать, что она была дурочкой. Меня, по крайней мере, она постоянно обводила вокруг пальца. В своем деле она была специалисткой. Ее занимало все, что касалось любви, любовных связей, мужского и женского самолюбия, обманов и интриг, того, что люди говорят и о чем умалчивают. Знаешь, слушая ее, я вспоминал Пруста. В шестнадцать лет ее выдали замуж за старого австрийского дипломата, человека образованного, хитрого и недоверчивого, которого она обманывала без малейшего труда. Похоже, тот верил, что берет себе в дом нечто вроде котенка, и с самого начала вел себя с ней по-хозяйски, старался воспитывать ее и направлять, а она с самого начала делала вид, что слушается его во всем, и обманывала, как могла. Ее родители считали, что мужу не под силу противостоять Леде в этой войне (его дело — подчинить ее себе, ее дело — вывернуться, сбросить путы), и сторожили ее, словно еще двое ревнивых мужей. Но не думай, что эти обстоятельства влияли на ее веселость или на ее привязанность к родителям и к австрийцу. Она всех любила и всем лгала. Радостно и азартно изобретала она хитрые, запутанные проделки.
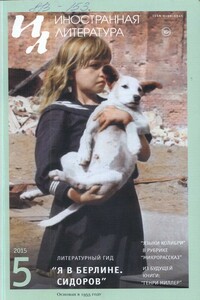
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
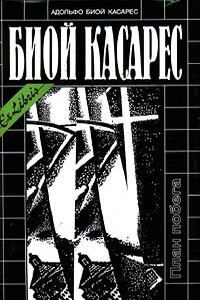
Имя Адольфо Биой Касареса (1914–1999) в аргентинской – и в мировой! – литературе стоит рядом с именами Борхеса и Кортасара. «Борхес завораживает, Кортасар убеждает, Биой Касарес тревожит» – это краткая и точная характеристика, данная французским критиком Юбером Жюэном наиболее значительным прозаикам современной Аргентины. Действительнось, окружавшая Биой Касареса, вызывала у писателя тревогу. И эта тревога явственно звучит в психолого-фантастических романах «План побега», «Сон о героях», «Спящие на солнце», упрочивших всемирную известность автора «Изобретения Мореля».Помимо романов, в настоящее издание включены избранные рассказы разных лет.

В рубрике «Документальная проза» — Адольфо Бьой Касарес (1914–1999) «Борхес» (Из дневников) в переводе с испанского Александра Казачкова. Сентенция на сентенции — о Шекспире, Сервантесе, Данте, Бродском и Евтушенко и т. п. Некоторые высказывания классика просятся в личный цитатник: «Важно, не чтобы читатель верил прочитанному, а чтобы он чувствовал, что писатель верит написанному». Или: «По словам Борхеса, его отец говорил, что одно слово в Евангелиях в пользу животных избавило бы их от тысяч лет грубого обращения.
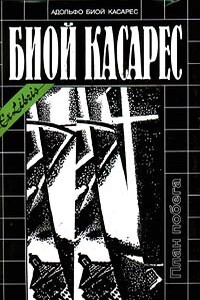
Имя Адольфо Биой Касареса (1914–1999) в аргентинской – и в мировой! – литературе стоит рядом с именами Борхеса и Кортасара. «Борхес завораживает, Кортасар убеждает, Биой Касарес тревожит» – это краткая и точная характеристика, данная французским критиком Юбером Жюэном наиболее значительным прозаикам современной Аргентины. Действительнось, окружавшая Биой Касареса, вызывала у писателя тревогу. И эта тревога явственно звучит в психолого-фантастических романах «План побега», «Сон о героях», «Спящие на солнце», упрочивших всемирную известность автора «Изобретения Мореля».Помимо романов, в настоящее издание включены избранные рассказы разных лет.

В сборник вошли произведения, созданные Х.Л. Борхесом в соавторстве с его другом А. Бьой Касаресом. «Шесть загадок для дона Исидро Пароди» – цикл пародийно-детективных новелл, где расследованием преступлений занимается весьма необычный герой – узник столичной тюрьмы.

Собрание сочинений австрийского писателя Стефана Цвейга (1881–1942) — самое полное из изданных на русском языке. Оно вместило в себя все, что было опубликовано в Собрании сочинений 30-х гг., и дополнено новыми переводами послевоенных немецких публикаций. В третий том вошли роман «Нетерпение сердца» и биографическая повесть «Три певца своей жизни: Казанова, Стендаль, Толстой».

«Заплесневелый хлеб» — третье крупное произведение Нино Палумбо. Кроме уже знакомого читателю «Налогового инспектора», «Заплесневелому хлебу» предшествовал интересный роман «Газета». Примыкая в своей проблематике и в методе изображения действительности к роману «Газета» и еще больше к «Налоговому инспектору», «Заплесневелый хлеб» в то же время продолжает и развивает лучшие стороны и тенденции того и другого романа. Он — новый шаг в творчестве Палумбо. Творческие искания этого писателя направлены на историческое осознание той действительности, которая его окружает.

Во 2 том собрания сочинений польской писательницы Элизы Ожешко вошли повести «Низины», «Дзюрдзи», «Хам».

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
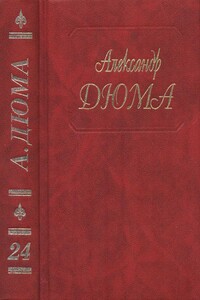
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
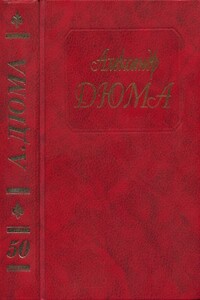
В этом томе предпринята попытка собрать почти все (насколько это оказалось возможным при сегодняшнем состоянии дюмаведения) художественные произведения малых жанров, написанные Дюма на протяжении его долгой творческой жизни.