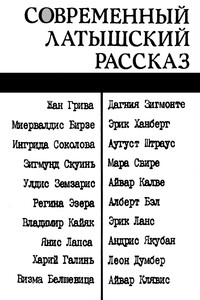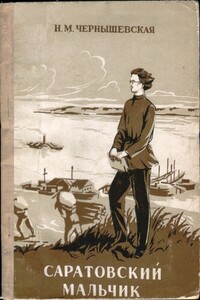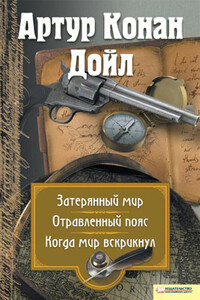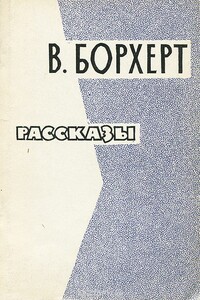— Ничего… Ничего страшного, Артур, правда. Ложись, пожалуйста.
Он ложится, но с таким видом, будто намерен все выяснить, когда придет время. Шарлотта хочет, чтобы он смог, или, скорее, надеется, что он не станет этого делать, потому что наверняка расстроится. Она плакала, потому что у нее не было причин плакать. А еще потому, что она испытывает удовлетворение — не абстрактную иллюзию счастья или блаженства. Обнаружить, что ты присоединился к обширному клубу людей, которые чувствуют, что жизнь, в целом, обходится с ними очень неплохо, — это шок. Основательный толчок землетрясения. Этого не должно происходить.
— Потому что, — тихо объясняет Шарлотта, садясь на постели и обнимая колени, — я чувствую, что мне достается их доля. Мы все должны были получить это. Эмили, Энн, Брэнуэлл. А я прибрала к рукам все наследство. Мне это очень нравится, но я думаю, что не должна этим обладать. Нет, я не говорю, что не хочу этого. Просто я… просто я хотела бы еще раз услышать их голоса. Вот и все.
Море.
Наконец-то она здесь. В Килки она встречается со своим морем, с морем, которое ей хотелось увидеть в течение всего ирландского медового месяца. Истинным морем, океаном: Атлантическим океаном, который захватил весь горизонт и окатывает пеной берег под утесом. Это море ее матери. Шарлотта надеется, что Артур понимает: оказавшись здесь, добравшись сюда, она хочет просто смотреть — не говорить. Смотреть, слушать.
И он понимает. Проверяет, чтобы ей было уютно в пледе, просит не подходить слишком близко к краю и удаляется на маленькую дистанцию молчания.
Шарлотта позволяет морю унести свои мысли. Все случилось так, как она только могла надеяться: ее море — и даже больше. Абсолютно неожиданно и прекрасно: да, вот они, прислушайся; она склоняет голову, и сквозь завывания ветра, сквозь грохот прибоя ей наконец удается услышать потерянные голоса.