Тень без имени - [42]
Такси уже покинуло окрестности аэропорта и въехало в кишащий, словно муравейник, город. Создавалось впечатление, что его многочисленные светящиеся огоньки вот-вот погаснут. Казалось, что они, так же как свистки автомобилей и людской говор, осознают, что в любой момент покрывало тени и тишины накроет их существование. И действительно, город не замедлил погрузиться в сон под шум раскачивающихся на ветру деревьев, а тени становились все более и более длинными. Я не заметил, как мы проехали через центр и теперь приближались к предместьям, туда, где ожидало меня это окончательное решение, которого так долго ждал и боялся Коссини. В какой-то момент мне захотелось спросить у Богарта, как ему удалось узнать о том, что мы с Коссини не отказались от поисков пути проникновения в тайну, но слабая надежда на то, что художник все еще находится вне пределов досягаемости этого человека, потребовала от меня гордо хранить молчание. Тем не менее, будто бы читая мои мысли, Богарт сделал один из характерных для него жестов, свидетельствующих об усталости, и сказал:
— С вашим другом художником все в порядке. Он всего-навсего перенес один из столь характерных для него нервных кризисов. Мы всего лишь приложили немного усилий, чтобы вернуть его в то место, откуда ему никогда не следовало бы выходить.
Говоря это, он достал из кармана жакета фотографию, которая наполнила меня беспокойством: Ремиджио Коссини или кто-то, кто мог быть его двойником, сидел за столом в помещении, напоминавшем больничную столовую.
— Вы не знали? — добавил Богарт с плохо скрываемым сарказмом. — Очень жаль. Я должен был с самого начала предупредить вас о том, под влиянием какого человека вы оказались.
Усталость, вызванная страхом и замешательством, связанным с этой фотографией, помешала мне ответить ему. Возможно, в сложившейся ситуации было бы лучше вновь усомниться в словах моего палача, не поверить фотографии и предполагаемому умопомешательству единственного из всех моих знакомых, кто обладал ясностью мысли. Однако я настолько пресытился сомнениями, что поверил в то, что на снимке был именно Коссини. В тот момент я был удовлетворен сознанием того, что история Блок-Чижевски являлась всего лишь плодом воображения психопата. Единственным, что оставило пробел в моем сознании, была уверенность в том, что Богарт и его сторонники уготовили Коссини безнадежное будущее, заперев его в психиатрическую лечебницу, откуда ничто уже не могло вызволить художника. Фотография дрожала в моих руках наподобие телеграммы, в которой сообщалось о гибели товарища на поле боя, зачитанной до дыр в поисках подробностей трагедии, не уместившихся в холодных строчках официального документа. На фотографии художник был одет в смешной халат, который в свои лучшие времена, должно быть, был белым, но сейчас выглядел серым и потертым, что свидетельствовало о низком качестве услуг, предоставляемых этим лечебным учреждением. Небольшая тень в нижней части его лица указывала на начинающую расти бородку, что находилось в полном несоответствии с ухоженным и немного восточным обликом Коссини. Перед ним на столе стояла шахматная доска, на которой необыкновенно крупные фигуры застыли в ожидании того момента, когда их передвинут, сделав следующий ход.
— Сейчас его очередь делать ход, — пояснил Богарт, возвращая фотографию в роковой рог изобилия своих карманов, — но он сидит так уже дня два. Врачи говорят, что ему может потребоваться вечность для того, чтобы передвинуть фигуры.
Он сообщил об этом так, будто в глубине его холодных глаз произошел вдруг взрыв смеха, единственным внешним проявлением которого было сильное покраснение зажженного кончика сигареты. Мной начала овладевать непомерная усталость. Ярость душила меня, но она тоже не могла вырваться наружу. Поражение Коссини и перспектива навсегда сохранить его в памяти таким, измотанным и неспособным к соблюдению шахматных правил, слишком человечных для того, чтобы его ум был в состоянии их постичь, отдавали меня на милость наших преследователей. Мне так и не суждено было когда-либо понять, запланировал ли барон Блок-Чижевски наше поражение, или, напротив, мы сами привели к неудаче его план.
Как бы радуясь моему неизбывному молчанию, Богарт тоже замолчал на довольно длительный промежуток времени, пока такси кружило по окрестностям, которые по ту сторону окна все больше и больше утрачивали в сумерках свои очертания. В какой-то момент я перевел взгляд на зеркало заднего обзора и ощутил, что взгляд водителя остановился на мне, далекий от садистских глаз Богарта. Скорее шофер разглядел во мне некое несогласие, на которое его товарищ, занятый постоянным прикуриванием одной сигареты от другой, не обратил внимания. Вдруг, когда мы остановились по красному знаку светофора, водитель жестом привлек внимание Богарта и приказал ему что-то с безапелляционностью старого военного, разговаривающего со своим подчиненным.
Пока Богарт соглашался с наставлениями, которые давал ему шофер, я наблюдал, как разбегались в разные стороны шумные лондонские улицы, подобно ребятишкам, уставшим от ежедневных родительских ссор. Перед моим взором проплывали парки, обширные, как воинские кладбища, повороты дорог и пьедесталы, на которых бедняки выкрикивали названия газет с предложениями работы, становившиеся все более широкими проспекты и предместья, которые предвещали близость маргинальных территорий. Вдруг сгустился туман, и я с удивлением заметил, что это скорее тепло моего дыхания, согревавшее оконное стекло, что превращало этот город в место съемок плохого импрессионистского фильма. Я почувствовал, что таким образом страх выражается через дыхание, которое уже будто бы не принадлежало мне, как если бы я стоял на грани перевоплощения в другое покинутое жизнью тело, и все остальное уже не имело для меня большого значения. Когда здания начали повторяться с монотонной настойчивостью, мне захотелось поверить, что такси кружит специально для того, чтобы сбить меня с толку, но подобные мысли вскоре покинули меня, уступив место дерзким фантазиям, при помощи которых мое литературное воображение пыталось дать мне напрасные надежды. Иногда я казался себе умершим, похожим на привидение, которое подчеркивало нереальность существования тех, кто идет по жизни, совершая в соответствии с заключенным контрактом по велению режиссера действия, необходимые для заполнения кратких каждодневных сцен.
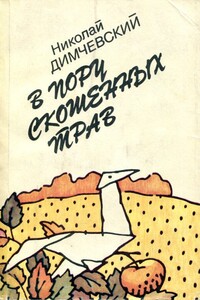
Герои книги Николая Димчевского — наши современники, люди старшего и среднего поколения, характеры сильные, самобытные, их жизнь пронизана глубоким драматизмом. Главный герой повести «Дед» — пожилой сельский фельдшер. Это поистине мастер на все руки — он и плотник, и столяр, и пасечник, и человек сложной и трагической судьбы, прекрасный специалист в своем лекарском деле. Повесть «Только не забудь» — о войне, о последних ее двух годах. Тяжелая тыловая жизнь показана глазами юноши-школьника, так и не сумевшего вырваться на фронт, куда он, как и многие его сверстники, стремился.
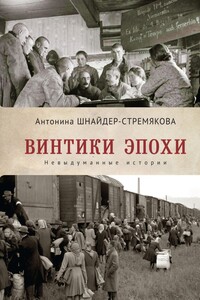
Повесть «Винтики эпохи» дала название всей многожанровой книге. Автор вместил в нее правду нескольких поколений (детей войны и их отцов), что росли, мужали, верили, любили, растили детей, трудились для блага семьи и страны, не предполагая, что в какой-то момент их великая и самая большая страна может исчезнуть с карты Земли.
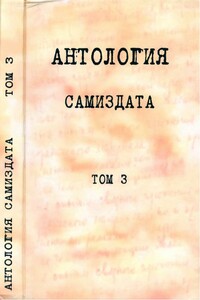
«Антология самиздата» открывает перед читателями ту часть нашего прошлого, которая никогда не была достоянием официальной истории. Тем не менее, в среде неофициальной культуры, порождением которой был Самиздат, выкристаллизовались идеи, оказавшие колоссальное влияние на ход истории, прежде всего, советской и постсоветской. Молодому поколению почти не известно происхождение современных идеологий и современной политической системы России. «Антология самиздата» позволяет в значительной мере заполнить этот пробел. В «Антологии» собраны наиболее представительные произведения, ходившие в Самиздате в 50 — 80-е годы, повлиявшие на умонастроения советской интеллигенции.

"... У меня есть собака, а значит у меня есть кусочек души. И когда мне бывает грустно, а знаешь ли ты, что значит собака, когда тебе грустно? Так вот, когда мне бывает грустно я говорю ей :' Собака, а хочешь я буду твоей собакой?" ..." Много-много лет назад я где-то прочла этот перевод чьего то стихотворения и запомнила его на всю жизнь. Так вышло, что это стало девизом моей жизни...

1995-й, Гавайи. Отправившись с родителями кататься на яхте, семилетний Ноа Флорес падает за борт. Когда поверхность воды вспенивается от акульих плавников, все замирают от ужаса — малыш обречен. Но происходит чудо — одна из акул, осторожно держа Ноа в пасти, доставляет его к борту судна. Эта история становится семейной легендой. Семья Ноа, пострадавшая, как и многие жители островов, от краха сахарно-тростниковой промышленности, сочла странное происшествие знаком благосклонности гавайских богов. А позже, когда у мальчика проявились особые способности, родные окончательно в этом уверились.

Самобытный, ироничный и до слез смешной сборник рассказывает истории из жизни самой обычной героини наших дней. Робкая и смышленая Танюша, юная и наивная Танечка, взрослая, но все еще познающая действительность Татьяна и непосредственная, любопытная Таня попадают в комичные переделки. Они успешно выпутываются из неурядиц и казусов (иногда – с большим трудом), пробуют новое и совсем не боятся быть «ненормальными». Мир – такой непостоянный, и все в нем меняется стремительно, но Таня уверена в одном: быть смешной – не стыдно.