Тень без имени - [30]
Я понял, что день, когда мы совершили поездку в Вену, явился для Дрейера мучительным испытанием его сознания, в результате которого его низость, его верность и его страсти стали объектами серьезной перестановки. Человек, которого я считал примером того, кто одержал победу над тщетой мирских треволнений, вдруг начал возрождать свою душу. За одну ночь возродились в нем безмерные колебания, сотрясавшие его всякий раз, когда он находился на грани, разделяющей добро и зло. Этические нормы превратились для Дрейера в ускользающую субстанцию, которую он всячески старался удержать под контролем. Он вдруг занялся изобретением странных моральных оправданий каждого из совершенных поступков, какими бы подлыми они ни казались, и пошел по жизни, защищаясь непригодным к применению кодексом ценностей. Это сделало еще более уязвимой убежденность Дрейера в том, что действительность всегда оказывается сильнее восхитительных обещаний воображения, которые в свое время привели его на Балканский фронт. Так же, как и империя, которая в былые времена распадалась на наших глазах, чтобы снова вернуться к войне с непреклонной решимостью, что-то внутри его противилось признанию того, что его новое имя было в жестоком списке разочарованных. Мне очень скоро пришлось признать, что тем вечером в Караншебеше представления о священном не окончательно покинули его душу. Они лишь снова уменьшились до минимальных размеров, которые все же оказались достаточными для того, чтобы, подобно шилу, покалывать самые чувствительные места деградировавшего сознания Дрейера. В те дни наши взаимоотношения приобрели характер неудавшегося брачного союза, где каждый замкнулся в своем монологе, стараясь найти верный путь в зыбком критском лабиринте, в который нас, как пару наивных принцесс, завел Эйхман.
Предполагаю, что именно тогда Дрейер начал вынашивать идею о том, что его обман, связанный с присвоением чужого имени, в определенной степени обязывал его исправить несправедливость в отношении всех тех погибших людей, которые унаследовали имя Тадеуша Дрейера, а точнее, того единственного, чье имя он присвоил во время войны четырнадцатого года, — еврея Эфрусси.
Вначале это была всего лишь идея, но вскоре она воплотилась в дух искупления, что, конечно, не могло не тревожить меня. Со времени нашей последней встречи с Эйхманом мы проводили свое время в постоянной борьбе: мои усилия, направленные на то, чтобы сбросить Дрейера в пропасть бесчестья, беспрерывно наталкивались на терзавшие его угрызения совести. Казалось, будто сама судьба провоцировала меня постоянно стрелять в знаки различия моего брата, чтобы видеть, как он вновь поднимается с намерением в тысяча первый раз доказать то, что это именно я истек кровью, потеряв душу на украинских снегах. Теперь, когда все закончилось наихудшим образом, теперь, когда уже не важно, что станет со мной и что произошло накануне с Дрейером, я признаю, что в те дни скорби я не единожды испытывал страх оттого, что в действительности мой товарищ был особого рода святым, которому было предначертано восстановить порядок в мозаичной картине, которую я хотел видеть такой же разбитой на куски и жалкой, как наши души. Неудовлетворенный и неспособный до этого времени управлять своими собственными поступками, начиная с той ночи Дрейер посвятил себя задаче исправления хода судеб других людей. Он нашел для этого столь радикальный способ, что я боялся, сможет ли сам Дрейер выдержать осуществление того, что считал теперь своей безусловной обязанностью по отношению к евреям, народу, история которого была переполнена постоянными изгнаниями и несбыточными надеждами. Она была слишком похожа на путь казаков, что и привело меня к постоянной мысли о евреях как о самой презренной части человечества, существующего на земле.
Первые и едва ощутимые признаки моего поражения начали возникать в скрытой, но раз от раза все более явной форме. Вместо того чтобы исполнять свои обязанности по отношению к войне и рейху, Дрейер оставался в постели, ссылаясь на невыносимую мигрень, охваченный обширной ленью, у которой, несомненно, были особые причины. Прогулки по Берлину, встречи с Герингом и с каждым разом все более зажигательные речи фюрера утратили для него ту притягательную силу, которую он ощущал в них ранее, видя в этом легкий путь к славе для героя войны, каким мы сделали его, взяв за основу подвиги, совершенные на Балканах. Хотя он и не был полон решимости окончательно отделаться от миража, созданного нашими совместными усилиями, теперь он использовал любую возможность, чтобы предупредить меня о том, что война проиграна и было ошибкой поверить нацистам.
Так обстояли дела, когда Дрейер принял решение, которое вынашивал в тишине, начиная с той ночи, когда он сыграл решающую партию в шахматы с Эйхманом. Однажды утром он вышел из очередного состояния оцепенения и неожиданно заявил:
— Кретшмар именно тот человек, Голядкин, который нам нужен.
Хотя мне потребовалось несколько секунд для того, чтобы оценить значение его высказывания, очень скоро я догадался, о чем идет речь, и это испугало меня. Я знал, что вот уже в течение нескольких недель Дрейер вынашивал идею о замене Адольфа Эйхмана, но до этого момента он сам не хотел признать, что имеет на примете подходящего для этого человека. Со времени встречи Дрейера с маршалом Герингом его маленькая армия двойников с большими успехами выполняла свою работу, и не единожды действия ее солдат помогали избежать несчастий таким людям, как Гиммлер или Геббельс. Действительно, некоторые высшие офицеры начинали уже смотреть с ужасом и подозрительностью на эффективное использование этих двойников, которые в конце концов были преданы Герингу. Тем не менее никто из них никогда не высказал вслух предположения о возможности полной замены, такой, которую сейчас намеревался произвести Дрейер не с высшими руководителями рейха, а с более скромным и, возможно, более опасным человеком — полковником Эйхманом. Сейчас не имеет большого смысла спрашивать себя, думал ли Дрейер когда-нибудь о том, что эта замена могла быть первой из многих. Единственным для него врагом, которого следовало победить, был нацист, ответственный за уничтожение. В связи с этим, когда он сообщил мне о том, что именно Кретшмар был необходим ему в качестве заменителя Эйхмана, я почувствовал себя так, будто передо мной поставили песочные часы с крошечным количеством песка. Мне незачем было спрашивать Дрейера о причинах такого решения. Молодой Кретшмар был связан с ним гораздо более тесными узами, чем отношения подчиненного с его начальником. Он был, несомненно, лучшим из его людей, верным и единственным, кто казался способным сделать для него все. Дрейер всегда испытывал к Кретшмару безмерную привязанность, и неоднократно, заинтригованный тем, что он оказывает молодому человеку денежную помощь и тайно заботится о нем, я приходил к мысли, что такая взаимная приязнь была связана не только с давним дружеским долгом по отношению к отцу несчастного юноши, как объяснял ее генерал. Как бы то ни было, теперь не оставалось сомнений в том, что именно Кретшмар идеально подходил для осуществления его плана. К тому же юноша был почти ровесником Эйхмана и являлся одним из лучших шахматистов Берлина. Что касается внешнего подобия, то их комплекции совпадали, а придание сходства чертам лица не составляло большого труда для искусных хирургов, предоставленных в наше распоряжение маршалом Герингом. Ослабевший на бесконечных оргиях нацистской молодежи, юноша обладал тем призрачным качеством, которое характерно для тех, кто жил только для сомнений, мести и ненависти, но в то же время сумел создать вокруг себя ауру равнодушия, почти полностью скрывавшую эти жизненные установки. Должен признать, что многократно в течение тех лет, когда я в соответствии с четкими инструкциями Дрейера следил за каждым шагом молодого человека, нечеткий облик Кретшмара наводил меня на мысль об упадочнической двусмысленности его облика. Плохо скрываемая лысина уже высовывалась из-под его военной шапки и надвигалась на его лицо, будто желая полностью исказить его. Глаза юноши не могли оживить его невыразительных черт, а тело Кретшмара, слегка надломленное, будто он все время сидел за шахматной доской, воскрешало в памяти костюм без хозяина, которому только капризные колебательные движения ветра придавали эфемерное впечатление живости. Увидев молодого человека, никто не поверил бы в то, что он способен совершить преступление. Разговаривая с Кретшмаром, люди вели себя с покорной дисциплинированностью. Он учился, общался с себе подобными, подчинялся приказам и играл в шахматы, никогда не теряя при этом из виду основной цели своих трудов. У юноши, таким образом, было все необходимое для того, чтобы отомстить Дрейеру. Я был в этом уверен настолько, что сам поспорил бы на оставшуюся у меня руку, если бы мне, по крайней мере, удалось перетянуть его на свою сторону. Дрейеру удалось взрастить верность молодого человека и добиться ее, обыграв Кретшмара в шахматы, и можно было почти не сомневаться, что душа юноши принадлежала ему будто по праву Создателя. Поэтому, когда я спросил Дрейера, действительно ли он верит, что его чемпион обладает твердостью духа, необходимой для замены Эйхмана, генерал ответил утвердительно и с раздражением, будто бы мой вопрос касался очевидного и являлся чересчур личным, поскольку его не имел права задавать такой человек, как я, имеющий слабое представление о тайне шахматной игры и непреложном кодексе чести, который она устанавливала для всех своих подданных.

В романе Б. Юхананова «Моментальные записки сентиментального солдатика» за, казалось бы, знакомой формой дневника скрывается особая жанровая игра, суть которой в скрупулезной фиксации каждой секунды бытия. Этой игрой увлечен герой — Никита Ильин — с первого до последнего дня своей службы в армии он записывает все происходящее с ним. Никита ничего не придумывает, он подсматривает, подглядывает, подслушивает за сослуживцами. В своих записках герой с беспощадной откровенностью повествует об армейских буднях — здесь его романтическая душа сталкивается со всеми перипетиями солдатской жизни, встречается с трагическими потерями и переживает опыт самопознания.

Так сложилось, что лучшие книги о неволе в русской литературе созданы бывшими «сидельцами» — Фёдором Достоевским, Александром Солженицыным, Варламом Шаламовым. Бывшие «тюремщики», увы, воспоминаний не пишут. В этом смысле произведения российского прозаика Александра Филиппова — редкое исключение. Автор много лет прослужил в исправительных учреждениях на различных должностях. Вот почему книги Александра Филиппова отличает достоверность, знание материала и несомненное писательское дарование.
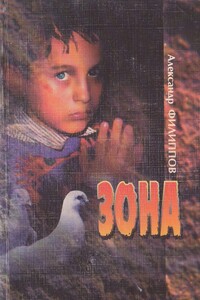
Книга рассказывает о жизни в колонии усиленного режима, о том, как и почему попадают люди «в места не столь отдаленные».
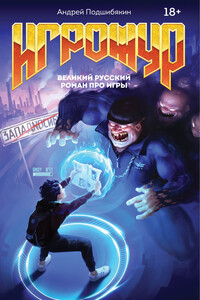
Журналист, креативный директор сервиса Xsolla и бывший автор Game.EXE и «Афиши» Андрей Подшибякин и его вторая книга «Игрожур. Великий русский роман про игры» – прямое продолжение первых глав истории, изначально публиковавшихся в «ЖЖ» и в российском PC Gamer, где он был главным редактором. Главный герой «Игрожура» – старшеклассник Юра Черепанов, который переезжает из сибирского городка в Москву, чтобы работать в своём любимом журнале «Мания страны навигаторов». Постепенно герой знакомится с реалиями редакции и понимает, что в издании всё устроено совсем не так, как ему казалось. Содержит нецензурную брань.

Свод правил, благодаря которым преступный мир отстраивает иерархию, имеет рычаги воздействия и поддерживает определённый порядок в тюрьмах называется - «Арестантский уклад». Он един для всех преступников: и для случайно попавших за решётку мужиков, и для тех, кто свою жизнь решил посвятить криминалу живущих, и потому «Арестантский уклад един» - сокращённо АУЕ*.
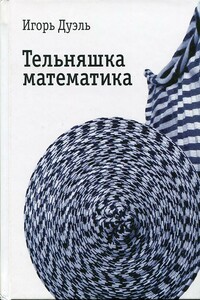
Игорь Дуэль — известный писатель и бывалый моряк. Прошел три океана, работал матросом, первым помощником капитана. И за те же годы — выпустил шестнадцать книг, работал в «Новом мире»… Конечно, вспоминается замечательный прозаик-мореход Виктор Конецкий с его корабельными байками. Но у Игоря Дуэля свой опыт и свой фарватер в литературе. Герой романа «Тельняшка математика» — талантливый ученый Юрий Булавин — стремится «жить не по лжи». Но реальность постоянно старается заставить его изменить этому принципу. Во время работы Юрия в научном институте его идею присваивает высокопоставленный делец от науки.