Тайна Великих Братьев - [3]
Приехал под вечер. На ночь в садишке каком-то устроился. Переночевал.
Теперь главное осталось: Робинзона Крузо добыть, Гулливера или Всадника без головы. Про них сельсоветский писарь Митрич занятно рассказывал.
Ходил Лёшка по базару, ходил — ни Робинзона, ни Гулливера нету. Шубу можно купить или скатерть богатую. А книжки всё тощие, неинтересные, половина — про божеские дела. Скучища!
Подкатился к Лёшке мальчонка какой-то чумазый, в пиджаке до колен. Посмотрел на сухого высокого парнишку — русые волосы в кружок подстрижены — усмехнулся:
— Здорово, деревня! Торг — яма: стой прямо, берегись, не ввались, упадёшь — пропадёшь. Зачем пожаловал?
Лёшка объяснил.
— Пойдём, — говорит мальчонка, — знаю я одного деда-бородеда. Мировой старикан. Выручит.
Пошёл Лёшка с новым товарищем. Не в деревне. Не близкий путь — по улочкам да переулочкам.
Наконец, пришли к старичку одному. Лицо у старичка смирное, очки в железных обручишках на лбу покоятся.
— Нет ли у вас, дедушка, книжки какой подходящей?
— Какая же тебе книжка, внучек, требуется?
Сказал Лёшка.
— Ах ты, господи боже мой! — сокрушается старичок. — Были у меня такие книжки. От сына-учителя остались. Да погнили, наверное, все в подвале. Сырой подвал-то. Лёшка за старичка уцепился:
— Пойдёмте, дедушка, посмотрим, может, и не сгнили. Я вам за них сала дам, пшена и деньгами тридцать шесть копеек.
Старичок даже руками замахал:
— Да что ты, внучек?! За такое добро целую библиотеку купить можно. Не возьму я у тебя ничего, а сала ломтик, так уж и быть, отрежу.
Пошли в подвал. Копались, копались в нём — тьмища, хоть глаз выколи. Сыростью пахнет, кислостью какой-то — спички даже гаснут.
Плюнул старичок и говорит:
— Пойдём ко мне на квартиру, я тебе лампу дам. Бери любую книгу, хоть все уноси. Не жалко. Гниль одна.
Взял лампу Лёшка, сало и пшено тихонько под кровать старичку подсунул и — бегом в подвал. Мальчонка прощаться стал:
— Будь здоров, браток. На чугунке увидимся. Дела у меня.
Осветил лампой подземелье Лёшка и даже ахнул от радости: весь подвал книгами завален. Слиплись они, расползлись многие, отсырели. Но ведь просушить их можно!
Стал книги разбирать. Вот какая-то Лидия Чарская пишет. О князьях и княгинях. В сторонку её.
А вот про пещеру какую-то. Это подходяще. Небось, про тайный клад.
Только взялся за книжку, а она поползла. Ах ты, беда какая!
Поднял ещё одну и глазам не поверил: «Робинзон Крузо»! Та самая, какая в Приказе значится!
Приподнял её осторожно, а в ней, считай, пуд весу: промокла насквозь. Обложка из красивого картона еле держится.
«Ничего, подсушим, подклеим — сгодится в дело».
Весь подвал перерыл Лёшка — ни Гулливера, ни Всадника без головы не нашёл. Взял ещё с собой «Дубровского» — сочинение Александра Пушкина, книжку Михаила Лермонтова с картинками, а потом стал выбирать книги покрасивее, те, что лучше уцелели.
Вышел мальчишка из подвала, рогожный куль с книгами на спину взвалил — ноги подгибаются.
Как с таким грузом в вагон пробьёшься?
Пришёл на станцию: не пускают. Что ты скажешь!
Совсем было заскучал Лёшка, да откуда ни возьмись — мальчонка чумазый.
— Не горюй, деревня! Придумаем что-нибудь!
Сует Лёшка на радостях парнишке тридцать шесть копеек:
— Поешь потом. Голоден, небось.
Усмехнулся мальчуган:
— Оставь себе, сгодятся. Понравился ты мне, варнак.
Взвалил Лёшка свой тюк на спину, пошёл за мальчонкой.
Долго шли, Лёшка совсем из сил выбился.
Наконец, парнишечка говорит:
— Лезь в дыру.
И отодвигает доску в заборе.
Прошли ребята на станцию, остановились возле вагонов. Городской объясняет:
— Ты здесь обожди, а я мигом узнаю, какой состав куда направляется.
И верно: явился через пяток минут, шепчет:
— Лезь вон в тот вагон. Он как раз до места тебя дотащит.
Трясётся Лёшка в теплушке, душа поёт:
«Выполнил Приказ!».
Часа два прошло, отодвинул Лёшка тяжёлую дверь на колесиках, смотрит: «Как бы станцию свою не проворонить!».
Ещё издали узнал её, станцию свою. Приготовил тючок, дверь пошире открыл.
Засвистел паровоз: «Сходи, дескать, Лёшка, довёз я тебя к Братьям Великим!».
Только не останавливаются что-то вагоны. Почему? Станция же!
Промчался поезд, мелькнула родная станция и улетела, скрылась. И сразу почувствовал Лёшка, что давно не ел, что мамка, наверное, плачет дома, что ходят насупленные Великие Братья, его, Лёшку, ожидают.
Вот промашка какая получается!
Всё же встал скоро поезд верстах в шести от Лёшкиной станции.
«Ну, это ещё не главное горе. И пешком как-никак дойду!». Выпрыгнул из вагона, тючок получше к спине пристроил, зашагал по шпалам.
Шёл-брёл — на старичка озлился:
«Не мог, леший, такое богатство уберечь! Тащи теперь пуды-то эти!».
Потом опамятовался:
«За что же это я старого человека ругаю? Он же мне задаром всё это отдал!».
Снова пошёл. Ослабел скоро, присел на шпалы.
«Эх, сейчас бы кусок хлеба свежего с луковицей!».
Опять обозлился — на себя уже:
«Тоже ещё — Великий Брат! Пять верст пешком пройти не можешь!».
Версты две отмерял по шпалам, ну никакого терпения не стало: давит тючок спину камнем многопудовым.
«Может, выкинуть какие книги? Те, что похуже».
Подумал, вздохнул:
«Нет, не бывать тому. Донесу все».

Правдивые рассказы о голубях, о птичьих тайнах — загадках природы, о верности и подвигах пернатых, их привязанности к своему дому, о любви человека к этой чудесной птице, которая облетела весь свет, став символом мира.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
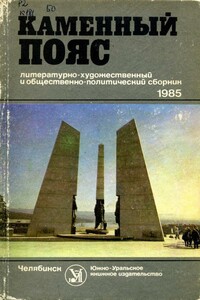
Литературно-художественный и общественно-политический сборник, подготовленный Челябинской, Курганской и Оренбургской писательскими организациями. Посвящен 40-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
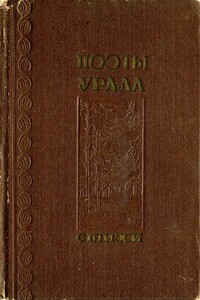
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В избранную лирику М. Гроссмана, представленную в сборнике тремя разделами, вошли стихи, ранее публиковавшиеся, и новые, написанные поэтом за последние годы.

Две маленькие веселые повести, посвященные современной жизни венгерской детворы. Повесть «Непоседа Лайош» удостоена Международной литературной премии социалистических стран имени М. Горького.

Повесть «Федоскины каникулы» рассказывает о белорусской деревне, о труде лесовода, о подростках, приобщающихся к работе взрослых.

Рассказы о нелегкой жизни детей в годы Великой Отечественной войны, об их помощи нашим воинам.Содержание:«Однофамильцы»«Вовка с ничейной полосы»«Федька хочет быть летчиком»«Фабричная труба».

Сборник состоит из двух повестей – «Маленький человек в большом доме» и «Трудно быть другом». В них автор говорит с читателем на непростые темы: о преодолении комплексов, связанных с врожденным физическим недостатком, о наркотиках, проблемах с мигрантами и скинхедами, о трудностях взросления, черствости и человечности. Но несмотря на неблагополучные семейные и социальные ситуации, в которые попадают герои-подростки, в повестях нет безысходности: всегда находится тот, кто готов помочь.Для старшего школьного возраста.
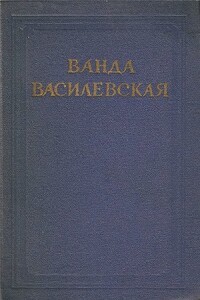
В 6-й том Собрания сочинений Ванды Василевской вошли пьеса об участнике восстания Костюшко 1794 года Бартоше Гловацком, малая проза, публицистика и воспоминания писательницы.СОДЕРЖАНИЕ:БАРТОШ-ГЛОВАЦКИЙ(пьеса).Повести о детях - ВЕРБЫ И МОСТОВАЯ. - КОМНАТА НА ЧЕРДАКЕ.Рассказы - НА РАССВЕТЕ. - В ХАТЕ. - ВСТРЕЧА. - БАРВИНОК. - ДЕЗЕРТИР.СТРАНИЦЫ ПРОШЛОГОДневник писателя - ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ТУРЬЕ. - СОЛНЕЧНАЯ ЗЕМЛЯ. - МАЛЬВЫ.ИЗ ГОДА В ГОД (статьи и речи).[1]I. На освобожденной земле (статьи 1939–1940 гг.). - На Восток! - Три дня. - Самое большое впечатление. - Мои встречи. - Родина растет. - Литовская делегация. - Знамя. - Взошло солнце. - Первый колхоз. - Перемены. - Путь к новым дням.II.
